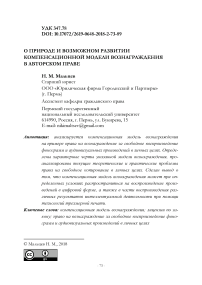О природе и возможном развитии компенсационной модели вознаграждения в авторском праве
Автор: Мальцев Н.М.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское право и процесс
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется компенсационная модель вознаграждения на примере права на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Определены характерные черты указанной модели вознаграждения, проанализированы текущие теоретические и практические проблемы права на свободное копирование в личных целях. Сделан вывод о том, что компенсационная модель вознаграждения может при определенных условиях распространиться на воспроизведение произведений в цифровой форме, а также в части воспроизведения различных результатов интеллектуальной деятельности при помощи технологий трехмерной печати.
Компенсационная модель вознаграждения, лицензии по закону
Короткий адрес: https://sciup.org/147230026
IDR: 147230026 | УДК: 347.78 | DOI: 10.17072/2619-0648-2018-2-73-89
Текст научной статьи О природе и возможном развитии компенсационной модели вознаграждения в авторском праве
История появления компенсационной модели вознаграждения, которая в российском законодательстве представлена правом на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях (ст. 1245 ГК РФ), обусловлена причинами появления авторского права в целом. Как известно, появление авторского права в отношении литературных произведений большинство исследователей соотносят с созданием и распространением книгопечатания, которое упростило процесс копирования и воспроизводства книг1. Со временем научно-технический прогресс дает еще большую возможность для воспроизводства и распространения иных объектов, что создает предпосылки для расширения сферы авторского права. А.Л. Маковский следующим образом характеризует данный процесс: «Для разных объектов их возросшая значимость в экономике и социальной сфере была вызвана разными причинами, но опять же в общем плане эти причины можно охарактеризовать как созданную научно-техническим прогрессом возможность, во-первых, сравнительно легкого отделения, обособления интеллектуального продукта от его материального носителя и, во-вторых, самостоятельного использования этого обособленного результата в массовом масштабе. Для литературных произведений такая возможность появилась с распространением книгопечатания, для произведений изобразительного искусства – с появлением различных технических способов репродуцирования изображений и фотографии, для исполнения – с изобретением и широким использованием аудио- и видеозаписи и т. д.»2
Таким образом, развитие техники, упрощающей воспроизводство и распространение произведений, на определенном этапе общественного развития приводит к необходимости введения авторско-правовой защиты в виде исключительного права, которое создает легальную монополию на копирование экземпляров произведения и тем самым обеспечивает баланс имущественных интересов правообладателей и общества.
Примечательно, что сам термин «copyright», использующийся для обозначения авторского права в странах англосаксонской правовой системы, буквально может быть переведен как «право на копию», что подчеркивает значимость правомочия на воспроизведение как одного из ведущих в составе исключительного права. Данное правомочие изначально было ограничено воспроизведением в личных целях (так называемым домашним копированием), так как предполагалось, что данные действия не приносят значительного ущерба правообладателям и соответствуют общественным интересам. По справедливому замечанию Е. Сафоновой, «автору наносился незначительный ущерб, что позволяло применить принцип de minimis lex non regit (“право не занимается пустяками”)»3.
Начиная с 50-х гг. ХХ века научно-технический прогресс приводит к дальнейшему развитию техники для воспроизводства произведений, в том числе в домашних условиях, что влечет увеличение масштабов и возможностей домашнего копирования. Данные изменения, по мнению многих исследователей, ущемляли имущественные интересы авторов и правообладателей, что в итоге привело к появлению права на вознаграждение за свободное вос- произведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях4. Таким образом, дисбаланс интересов потребовал пересмотреть действующий подход к ограничениям права на воспроизведение и привел к тому, что некоторые ранее безвозмездные ограничения стали возмездными.
Возмездные ограничения исключительных прав в литературе получили название «недобровольных лицензий» (non-voluntary license), которые, в свою очередь, могут быть поделены на «принудительные лицензии» (compulsory licenses) и «лицензии по закону» (statutory licenses)5.
В российском законодательстве имеется ст. 1239 ГК РФ, посвященная принудительным лицензиям. В соответствии с данной нормой, в случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу. В настоящее время данная статья распространяется только на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1362 ГК РФ), а также на селекционные достижения (ст. 1423 ГК РФ). Отличие принудительной лицензии от обычного лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ) заключается в порядке заключения такого договора, природа вознаграждения в данном случае ничем не будет отличаться от вознаграждения за возмездное распоряжение имущественным исключительным правом.
Лицензии по закону имеют совершенно иные характеристики, которые можно представить на основе анализа права на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. В соответствии со ст. 1245 указанное право на вознаграждение имеет компенсационный характер и выплачивается правообладателям за счет средств, которые подлежат уплате изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей, используемых для такого воспроизведения. В силу фактических причин правообладатель не имеет возможности заключить договор с каждым, кто осуществляет воспроизведение в личных целях, либо запретить и контролировать такое использование. Таким образом, вознаграждение представляет собой компенсацию и строится на иных принципах, нежели вознаграждение за возмездное распоряжение исключительным правом.
Ответ на вопрос о том, является ли указанное право неким новым проявлением природы исключительного имущественного права, либо альтернативой указанному праву, тесно связан с вопросом, является ли право на вознаграждение частью исключительного права, либо представляет собой право sui generis и должно быть отнесено к категории иных прав в контексте ст. 1225 ГК РФ.
Первая возможная модель характеризуется тем, что право на вознаграждение за свободное воспроизведение рассматривается как часть исключительного права, соответственно, не является самостоятельным правом6. Таким образом, в случае введения лицензии по закону исключительное право в рамках правомочия на воспроизведение «сужается» до права на вознаграждение, которое, по сути, является тем же самым общим правом на вознаграждение за использование, которое правообладатель получает в случае возмездного распоряжения исключительным правом7. Исходя из данного тезиса, в случае лицензии по закону правомочие на воспроизведение претерпевает сущностные изменения. Если по общему правилу обладатель исключительного права на произведение имеет возможность запрещать либо разрешать воспроизведение произведения, распоряжаться данным правом и получать от этого доход («право на вознаграждение как проявление предоставленной обладателю исключительного права возможности контролировать использование про-изведения»8), то в случае воспроизведения в личных целях использование фактически осуществляется конечными потребителями без согласия правообладателя (данное согласие презюмируется в силу закона), который не имеет возможности запретить, разрешить либо распорядиться указанным пра-вом9. Единственное, что остается от правомочия на воспроизведение, – это право получить вознаграждение10.
Данная модель получила свое отражение в современном законодательстве и судебной практике. В соответствии с п. 5 ст. 1229 ГК РФ, а также п. 10.1 и п. 10.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленумов ВС и ВАС РФ № 5/29)11, право на вознаграждение входит в состав исключительного права и сохраняется у автора, исполнителя, изготовителя фонограммы и тогда, когда исключительное право ему не принадлежит, а равно у обладателя исключительного права, если оно существенно ограничено. Действующая редакция ст. 1252 ГК РФ, посвященная способам защиты исключительного права, также указывает, что в случае нарушения права на вознаграждение может быть предъявлено требование о возмещении убытков.
Стоит признать, что рассмотрение права на вознаграждение за свободное воспроизведение в личных целях в качестве части исключительного права снимает многие возможные вопросы, так как позволяет распространить нормы об исключительном праве на рассматриваемое право на вознаграждение. Например, становятся известными моменты возникновения и прекращения указанного права, вопросы наследования в соответствии с п. 84 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9, а также, что особенно важно, принцип действия данного права на территории РФ12.
Однако, несмотря на вышеуказанные достоинства модели существования права на вознаграждение в качестве части исключительного права, данная концепция имеет существенные противоречия, в первую очередь в части распоряжения указанным правом.
Исходя из п. 5 ст. 1229 ГК РФ, а также п. 10.1 и п. 10.2 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 5/29, право на вознаграждение сохраняется у получателей вознаграждения даже тогда, когда исключительное право им не принадлежит. Несомненно, возникает вопрос: каким образом в случае отчуждения исключительного права, которое всегда переходит в полном объеме к другому лицу, какая-то часть данного права может остаться у прежнего пра- вообладателя? Более того, по своей природе данное вознаграждение носит компенсационный характер, т. е. призвано компенсировать возможные убытки обладателям исключительного права, которое ограничено. Встает закономерный вопрос: почему данное право продолжает компенсировать убытки тем, кому исключительное право не принадлежит, например авторам аудиовизуального произведения, которые зачастую передают все права изготовителю данного произведения (продюсеру)?
Исключительное право является имущественным правом, которые, за редкими исключениями, всегда оборотоспособны. Таким образом, неотчуждаемость части исключительного права противоречит природе данного права. Даже если не принимать во внимание указанное противоречие, неотчуждаемость имущественного права на вознаграждение должна быть обоснована. Как известно, неотчуждаемость имущественного права должна быть прямо предусмотрена в законе и чаще всего связана с тем, что указанное право неотделимо от личности правообладателя либо направлено на защиту слабой в экономическом плане стороны. В данной ситуации рассматриваемое право на вознаграждение принадлежит не только автору, физическому лицу, но и изготовителю фонограмм и аудиовизуальных произведений; соответственно, говорить о неразрывной связи рассматриваемого права с личностью автора нельзя.
В связи с данными противоречиями часть исследователей предлагают отказаться от действующего подхода и закрепить право на вознаграждение только за актуальным правообладателем13, что является более обоснованным с точки зрения возмещения возможных убытков. По нашему мнению, наиболее оптимальный вариант – рассматривать право на вознаграждение в качестве отчуждаемого и обладающего свойством следования за исключительным правом14. Соответственно, оно всегда будет принадлежать правообладателю исключительного права (данным лицом может быть как автор, так и изготовитель либо третье лицо). Справедливо заметить, что данный подход не соответствует сложившейся российской и мировой практике, однако, как уже было отмечено выше, более соответствует справедливому возмещению возможных имущественных потерь.
Таким образом, вывод о возможности права на вознаграждение за свободное воспроизведение быть частью исключительного права представляется неверным. По справедливому замечанию Е.Н. Васильевой, «различная социально-экономическая направленность, а следовательно, и назначение исключительного права и права на вознаграждение за свободное использование интеллектуальной собственности, различна и не позволяет соотносить эти права как целое и часть этого целого»15. А. Г. Матвеев также подчеркивает, что «включение этого права (права на вознаграждение за воспроизведение в личных целях – Н. М. ) в состав исключительного права – не что иное, как редуцирование разнообразных отношений по обеспечению имущественного интереса автора к модели исключительного права, что разрушает конструкцию последнего, внося в нее факультативные элементы, которые не свойственны его содержанию и идее»16.
Также представляется сомнительной возможность отождествления вознаграждения за использование исключительного права, которое возникает в случае договорных отношений между правообладателем и плательщиком, и вознаграждения за свободное копирование в личных целях. В случае лицензий по закону обязательственных отношений между конечным плательщиком (потребителем) и правообладателем не возникает17. Как следствие, ни у одной из сторон нет возможности оговорить размер, сроки и иные условия, относящиеся к вознаграждению. Соответственно, данные виды вознаграждения имеют различную природу и механизм функционирования.
Все указанные противоречия приводят к тому, что в доктрине поддерживается вторая модель взаимодействия рассматриваемого права на вознаграждение и исключительного права. Данная модель характеризуется тем, что право на вознаграждение за свободное воспроизведение рассматривает- ся как самостоятельное право18, отличное от исключительного права, следовательно, не входящее в состав исключительного права19. В соответствии с данной концепцией исследователи полагают, что в случае введения недобровольных лицензий происходит «замена» исключительного права правом на вознаграждение. Например, Д. Липцик говорит о том, что «... в рамках этой системы, сразу после использования автором его личного неимущественного права на обнародование произведения, его власть над произведением исчезает и замещается лишь правом на вознаграждение»20. И. А. Близнец и К. Б. Леонтьев также отмечают, что «в отличие от случаев так называемого свободного использования произведений и объектов смежных прав в данном случае речь идет об установлении особого права на получение вознаграждения компенсационного характера, которое призвано заменить действие исключительного права с учетом невозможности реализации его в указанных случаях в полном объеме»21. В случае признания права на вознаграждение за свободное воспроизведение правом sui generis, в соответствии с закрепленной в ст. 1226 ГК РФ классификацией, оно должно быть отнесено к категории «иных» прав.
По нашему мнению, признание права на вознаграждение в качестве самостоятельного права оправдано также тем, что лицензии по закону по своей природе являются в некотором роде альтернативой исключительному праву, так как использование произведения и вознаграждение строятся в данном случае на основе «инклюзивного правового метода»22, т. е. не требующего обязательного согласия правообладателя. С точки зрения экономического анализа права исследователи рассматривают лицензии по закону как смену действующего «принципа собственности» «принципом ответст-венности»23.
Данные сущностные черты отражаются и в предлагаемой терминологии. Исходя из особенностей природы данного платежа многие исследовате- ли обоснованно предлагают использовать термин «сбор»24, «компенсация»25, а не «вознаграждение». Также в доктрине широко распространено мнение о том, что само вознаграждение можно охарактеризовать в качестве «парафис-кального платежа»26.
Помимо вышеуказанных теоретических противоречий, рассматриваемое право на вознаграждение имеет большое количество проблем реализации на практике, которые получили свое отражение в научной литературе27. Среди них прежде всего отмечается наличие в России одного из самых широких перечней оборудования, из стоимости которого рассчитывается размер возна-граждения28, критерии распределения собранного вознаграждения29, а также решается вопрос соотношения права на вознаграждение за свободное копирование в личных целях и технических средств защиты авторских прав30.
Все рассмотренные противоречия и проблемы могут привести к выводу о том, что введение рассматриваемого права на вознаграждение является преждевременным или необоснованным шагом законодателя31. Однако стоит еще раз подчеркнуть, что возникновение данного компенсационного вознаграждения связано с развитием технологий копирования, а научно-технический прогресс стремительно движется вперед и уже создает новые вызовы для авторского права. В связи с этим в доктрине подчеркивается сложность реализации исключительного права в будущем и перспективность дальнейшего развития компенсационных схем вознаграждения32.
Предлагается рассмотреть три актуальных, по нашему мнению, направления по развитию компенсационной модели вознаграждения в будущем.
Во-первых, это распространение компенсационной модели вознаграждения на воспроизведение объектов в цифровой среде (при помощи сети Интернет).
Изначальная идея ввести альтернативную систему компенсации в отношении произведений в цифровой среде принадлежит В. Фишеру33. В общих чертах данная система также строится на принципе того, что использование произведения в сети Интернет возможно без согласия правообладателя, однако с выплатой компенсации. В российской науке данные взгляды были развиты Р. А. Будником34.
Идеи о расширении компенсационной модели вознаграждения на воспроизведение произведений в сети Интернет стали воплощаться в законопроекты в разных странах мира, однако до настоящего времени не получили своего реального воплощения35. В Российской Федерации также предпринимались попытки ввести указанную модель вознаграждения36, которое получило название «глобальной лицензии»37 или «налога на интернет», имело широкий общественный резонанс38, критику со стороны экспертного сообщества39 и, в итоге, не было реализовано.
Е. А. Войниканис оценивает данные инициативы следующим образом: «сами попытки обременить провайдеров интернет-услуг сборами вознаграждения за свободное воспроизведение охраняемых произведений в сети Интернет необходимо рассматривать как естественное следствие изменения экономической ситуации. … С правовой точки зрения речь идет о попытке заместить получение вознаграждения от непосредственных пользователей получением вознаграждения от прибыли информационных посредников». Исследователь делает вывод, что прежде чем расширять и создавать новую компенсационную модель вознаграждения, необходимо решить вопросы уже действующей40, с чем мы полностью согласны.
Во-вторых, логичным продолжением вышеуказанных тенденций является возможное распространение концепции компенсационной модели вознаграждения на отношения в сфере воспроизведения результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) в домашних условиях при помощи устройств трехмерной печати (далее – 3D-принтеры). Развитие домашней трехмерной печати и ее влияние на будущее права интеллектуальной собственности обсуждаются зарубежным41 и российским42 юридическим сообществом.
Бурный рост индустрии 3D-принтеров в некотором роде напоминает развитие копирующих устройств в 50-х годах ХХ века, которое привело к возникновению компенсационного вознаграждения в виде права на вознаграждение за частное копирование. 3D-принтеры также со временем могут привести к тому, что воспроизводство различных РИД в аналоговой форме станет неконтролируемо и приобретет широкий размах, что скажется на доходах правообладателей43. В связи с этим предполагаем, что со временем начнет обсуждаться вопрос о введении нового компенсационного вознаграждения, которое будет собираться с производителей 3D–принтеров и расходных материалов. Учитывая проблемы с действующим компенсационным вознаграждением, принятие решение в отношении 3D-принтеров требует глубокого предварительного анализа.
В-третьих, дополнительного анализа требует дальнейшее развитие компенсационной модели вознаграждения в условиях развития стриминговых (потоковых) сервисов. Данные сервисы в современном мире приобретают все большую популярность44 и это, по нашему мнению, позволяет говорить о том, что постепенно меняется модель потребления контента в сети Интернет.
Все больше пользователей предпочитает не приобретать цифровую копию файла, которая далее может быть воспроизведена и распространена, а получать доступ к тому или иному произведению для его просмот-ра/прослушивания онлайн. Доступ к такого рода сервисам может быть на платной либо условно бесплатной основе45. Самое главное в том, что каждый просмотр или прослушивание того или иного произведения могут быть зафиксированы, что позволяет создавать определенное представление о количестве просмотров каждого произведения и на основе этих данных справедливым образом распределять прибыль между стриминговым сервисом и правообладателями произведения. В данном случае правообладатель получит вознаграждение на основе лицензионного договора; соответственно, это будет обычное вознаграждение за использование.
Возможно, рост популярности стриминговых сервисов со временем приведет к пересмотру размеров предполагаемых убытков правообладателей от частного копирования, так как потребители со временем все меньше будут воспроизводить произведения в домашних условиях. Теоретически, данный вариант развития событий как итог может иметь отмену права на вознаграждение за воспроизведение в личных целях.
Таким образом, если первоначальное развитие техники для воспроизводства произведений привело к появлению авторского права, то дальнейший научно-технический прогресс в части упрощенного воспроизводства объектов авторского права как в аналоговой, так и цифровой форме может привести к существенной трансформации авторского права, в том числе в части смены концепций вознаграждения с «поощрительной» на «компенсационную».
Согласимся с Д. Липцик в том, что «недобровольные лицензии можно рассматривать в качестве пролога к существенной эволюции традиционного способа использования произведений и взаимоотношений авторов и пользователей, которая характеризуется сужением исключительных прав создателей (контролировать распространение собственных произведений и добиваться соблюдения своих личных неимущественных и имущественных прав). Фактически в рамках этой системы, сразу после использования автором его личного неимущественного права на обнародование произведения, его власть над произведением исчезает и замещается лишь правом на вознагражде-ние»46.
На основе действующего законодательства возможно выделить некоторые черты компенсационной модели вознаграждения, которые, вполне вероятно, сохранятся в будущем:
-
1. Воспроизведение РИД осуществляется конечным потребителем без согласия правообладателя и фактически может быть контролируемо только созданием технических средств защиты от копирования.
-
2. Вознаграждение за такое воспроизведение имеет бездоговорной характер и по своей природе является компенсацией, которая может быть только примерно рассчитана на основе статистических данных.
-
3. Плата вознаграждения осуществляется «промышленном сектором», т. е. производителями оборудования для воспроизводства РИД в домашних условиях, хотя в конечном итоге плательщиком оказывается конечный потребитель. Сбор и распределение вознаграждения осуществляется обществом по коллективному управлению правами.
Несмотря на перспективность компенсационной модели вознаграждения, дальнейшее расширения сферы ее действия требует серьезного анализа и предварительного решения проблем действующего вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях.
Список литературы О природе и возможном развитии компенсационной модели вознаграждения в авторском праве
- Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право. СПб., 2004.
- Близнец И. А., Леонтьев К. Б. Авторское право и смежные права: учебник / под ред. И.А. Близнеца. М., 2011.
- Бородин С. С. Свободное использование произведений в аспекте системного взаимодействия принципов авторского права: дис.. канд. юрид. наук. М., 2014.
- Будник Р.А. Концепция: инклюзивное право автора // Копирайт. 2013. № 3.
- Васильева Е. Н. Влияние судебной практики на регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности в России // Осуществление гражданского судопроизводства судами общей юрисдикции и арбитражными (хозяйственными) судами в России и других странах СНГ. М., 2014.