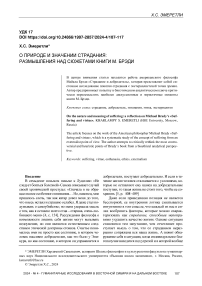О природе и значении страдания: размышления над сюжетами книги М. Брэди
Автор: Эмеретли Х.С.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания статьи находится работа американского философа Майкла Брэди «Страдание и добродетель», которая представляет собой системное исследование понятия страдания с экстерналистской точки зрения. Автор предпринимает попытку в биоэтическом аналитическом ключе критически переосмыслить наиболее дискуссионные и эвристичные моменты книги М. Брэди.
Страдание, добродетель, эвтаназия, этика, экстернализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170208802
IDR: 170208802 | УДК: 17 | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-4/107-117
Текст научной статьи О природе и значении страдания: размышления над сюжетами книги М. Брэди
В семьдесят восьмом письме к Луцилию «Не следует бояться болезней» Сенека описывает случай своей хронической простуды: «Сначала я не обращал на нее особенного внимания… Но, наконец, мне пришлось слечь, так как катар довел меня до того, что я весь истаял и страшно ослабел. Я даже стал подумывать о самоубийстве; но меня удержала мысль о том, как я оставлю моего отца – старика, очень любившего меня» [4, с. 154]. Рассуждения философа о возможности лишить себя жизни могут вызывать недоумение, но они являются естественным следствием этической доктрины стоиков. Счастье понималось ими не просто как состояние, в котором человек пассивно добродетелен, как это было у Эпикура, но как состояние, в котором он упражняется в добродетели, поступает добродетельно. И если в течение жизни человек сталкивается с условиями, которые не оставляют ему шанса на добродетельные поступки, то такая жизнь не стоит того, чтобы ее сохранять [5, p. 408–409]
Даже если приведенная позиция не является бесспорной, ее внутренняя логика схватывается интуитивно в том смысле, что каждый из нас в силах вообразить факторы, которые можно охарактеризовать как страдание, способные непоправимо ухудшить качество жизни. Однако ситуация становится тем запутаннее, чем отчетливее проступает мысль о том, что со страданием неразрывно сопряжена вся наша жизнь. А значит обнаружение себя в ситуации, когда индивидуальное благополучие находится под угрозой и в которой вообще возникает тяжелая дилемма – продолжение жизни в непрерывном страдании или добровольная смерть, не является исключительным случаем.
В античной философии страдание изначально приобретает ярко выраженный этический оттенок: «многосложные разновидности отчуждения от мира в древности – от стоицизма и эпикурейства до гедонизма и цинизма – можно всегда объяснить глубоким недоверием к миру, стремлением защититься и спастись от мира, уйти от подстерегающих в нем нужды и опасностей, сосредоточившись на интимном, в сфере которого самость встречается лишь сама с собой» [1, с. 383]. Наличие в этом списке гедонизма не должно никого смущать, хотя порой он некритически и вульгарно трактуется как безудержный поиск наслаждений. Гедонистическая система, наоборот, имеет в качестве своего основного принципа именно избежание неудовольствия; не желание заполучить удовольствие, но страх оказаться под гнетом страдания.
Несмотря на то, что страдание, по всей видимости, обладает статусом сквозной темы в философии, оно не часто помещается в фокус исследовательского интереса в качестве его основного предмета. Это кажется особенно странным в свете развития биоэтики и естественного процесса тотальной медикализации здоровья субъекта – от рождения до момента биологической смерти.
Понимание природы страдания и его моральных импликаций открывает доступ к решению такой важнейшей проблемы биоэтики, как эвтаназия. Регулирующее добровольный уход из жизни законодательство каждого из государств, в которых легализована активная эвтаназия1, выдвигает факт невыносимого страдания, испытываемого пациентом, в качестве одного из критериев, который потенциально позволяет человеку получить одобрение на прохождение процедуры2. В некоторых юрисдик- циях переживание невыносимого страдания является не только необходимым, но, в зависимости от ситуации, также и достаточным критерием для возможного одобрения эвтаназии. Бельгийский законодательный акт указывает, что смерть пациента должна произойти в «обозримом периоде времени», но по решению лечащего врача и в результате его консультации с психиатром или специалистом в требуемой области медицины; при принятии решения в расчет может приниматься только невыносимое страдание больного. Нидерланды и Люксембург не учитывают фактор «обозримого времени» и в принципе не проводят разграничения между смертельно и не-смертельно больными пациентами [24, p. 19–20]. Правительство Канады три года назад отменило требование того, что смерть должна быть «разумно предвидимой» [22]. При этом ни тексты законодательств указанных стран, ни соответствующие документы биоэтических комиссий не раскрывают должным образом природу, нормативность и значение такого понятия, как стра-дание3.
Вокруг феномена страдания разворачивается серьезная полемика как в академической, так и в общественной среде, охватывающая множество сторон – от специалистов по этике до самих пациентов и их близких родственни-ков4. Кроме того, возникает тревога по поводу широкой доступности и допустимости эвтаназии, что формирует консервативную критику либерального взгляда на человеческую авто-номию5.
Одной из плодотворных попыток научного решения вопроса о природе и границах страдания является книга Майкла Брэди «Страдание и добродетель» [11]. Автор последовательно представляет теоретические основания данного феномена и описывает его в контексте теории добродетели, что позволяет ему охарактеризовать страдание как значимую категорию моральной философии в целом и биоэтического дискурса в частности. Книга состоит из шести глав, однако я в своей полемике буду анализировать теоретические положения лишь тех из них, критическая рефлексия над которыми позволит, во-первых, впоследствии вывести дискуссию в пространство биоэтики, во-вторых, исследовать действительную возможность (или невозможность) обосновать страдание в качестве добродетели, в-третьих, рассмотреть то ключевое значение, которым обладает феномен, когда речь заходит о вопросах легализации или запрета процедуры эвтаназии.
Страдание как неприятность
Брэди рассматривает страдание двух видов – физическое и ментальное. Физическое страдание в наиболее общем смысле связано с телом. Но, вопреки очевидным догадкам, оно не исчерпывается физической болью той или иной продолжительности и интенсивности. Мы можем указать на широкий спектр состояний, источником которых является соматосенсорная система, но ни одно из которых не сопровождается обязательно чувством боли; например, высокая температура, тошнота, чрезмерная усталость, голод или жажда. Однако физическое страдание обладает как минимум двумя выраженными особенностями: во-первых, оно поддается локализации определенной степени точности – я могу сказать, что испытываю головную боль или я ощущаю дискомфорт в животе; во-вторых, физическое страдание может проявляться вне рамок когнитивной медиации – это означает, что животные и маленькие дети, которые не способны к сложным формам когнитивной активности, способны испытывать боль, усталость, голод и другие ощущения, но не обладают возможность выразить их так же, как это делает взрослый человек. Для Брэди сцепка физического страдания и тела является его (страдания) наиболее важной характеристикой. Именно поэтому он рассматривает многие проявления страдания как по существу физические и, следовательно, как виды физического страдания [11, p. 13–14]. На мой взгляд, важно отметить, что «физическое» следует понимать в смысле устойчивой связи недуга и его последующего эффекта с телом, а не в том смысле, что тело служит исключительно первоначальным источником или поводом для психологических переживаний. Примером второго рода может быть, скажем, серьезное заболевание, которое затрагивает тело, не причиняя при этом ощутимого дискомфорта, но сильно ударяет по психологическому состоянию человека. Некоторые авторы для описания таких случаев вводят понятие сенсорного страдания [17, p. 20–22], но я не думаю, что это действительно необходимо, и полагаю разграничение страдания на физическое и ментальное достаточным.
В противовес физическому страданию, ментальное страдание по своей сути не касается тела и во многом связано с мышлением субъекта, его отношением к миру и своему месту в нем; оно зависит от психологической реакции на грубые внешние раздражители, от которых бывает трудно или вовсе невозможно увернуться: «интенциональные объекты различных видов ментального страдания, по всей видимости, связаны с широким спектром не-телесных вещей» [11, p. 16]. В одних случаях ментального страдания его центральным компонентом выступает эмоция , например, гнетущее чувство вины или скорбь по умершему родственнику. В других эмоциональный аспект отсутствует, по крайней мере, в значении его открытой активности; можно упомянуть такие экзистенциальные состояния, как переживание потери смысла жизни, одиночество или тоска, у которых нет самоочевидных причин ни в теле, ни в психике. При этом разделение ментального страдания на две отдельные группы прорисовывается не столь отчетливо, как это может показаться на первый взгляд. Существуют состояния – тревога, ностальгия, скука и другие, о которых сложно сказать, что в них всегда и полностью отсутствует эмоциональный аспект. Второй тип различия между группами ментального страдания также является обоснованным, но вместе с этим не до конца строгим в своей концептуализации. Согласно этому типу, эмоциональное страдание направлено на некий осознаваемый субъектом страдания объект; когда я испытываю ужасный стыд, то стыжусь чего-то конкретного. Не-эмоциональные страдания лишены представленной возможности; состояние депрессии может отражать неудовлетворенность жизнью человека в ее совокупности или вовсе не иметь осязаемого объекта6.
Несмотря на расплывчатость линии демаркации между физическим и ментальным страданием, локусом их расхождения является укоре-ненность последнего в области психологического , мыслительного, вне зависимости от его возможных физиологических проявлений или истоков. Скажем, если я сломал руку, то попытка убедить себя в том, что никакой травмы на самом деле нет, не изменит объективного положения дел. И наоборот, если в свете новых подробностей, я пойму, что на самом деле не виноват в трагическом событии, из-за которого испытывал сильные угрызения совести, то отрицательно окрашенное эмоциональное состояние, скорее всего, сойдет на нет, по крайней мере, есть все основания этого ожидать.
Брэди указывает на то, что единственным константным элементом для страдания – тем, который встречается в каждом из случаев страдания, – выступает неприятность : «Существенным является компонент, который мы можем назвать негативным аффектом. Базовое суждение заключается в том, что все формы страдания считаются формами страдания отчасти из-за этого негативного аффективного элемента, отчасти потому, что они ощущаются плохими или неприятными» [11, p. 16].
Какая именно взаимосвязь существует между неприятностью и страданием? Брэди отвечает на этот вопрос, развивая desire view – одну из разновидностей экстерналистской трактовки природы страда-ния7, которую в классическом варианте можно сформулировать так: «ощущение S, возникающее в момент времени t, является неприятным в момент t, если субъект S желает, внутренне и de re , в момент времени t, чтобы S не возникало в момент t» [11, p. 47].
В отличие от интернализма, который заключает негативный аффект переживания в пределах его внутренних качеств, раскрываемых интроспективно, т.е. феноменологически, экстернализм говорит о необходимости внешнего фактора как своеобразного отношения субъекта к переживаемому им в данный момент опыту, как к страданию. Брэди достаточно подробно разбирает интерналистские линии аргументации, но в итоге признает каждую из них неудовлетворительной [11, p. 32–44].
На поверхности одним из важных доводов в пользу экстернализма является то, что он позволяет избежать проблему гетерогенности8. Также экстернализм позволяет объяснить стимулирующую силу неприятного опыта, который зачастую побуждает нас действовать определенным образом, а именно таким, который позволит устранить источник неприятности или негативного аффекта. Интерналистские трактовки затрудняются с обоснованием мотивирующей силы неприятности, поскольку ее необходимо описать в качестве неотъемлемой части неприятного опыта, что является далеко не тривиальной задачей.
Позиции в рамках экстернализма схожи не столько структурно (неприятность состоит из некоторого опыта и внешнего отношения к этому опыту), но и содержательно, потому что понятия желания, оценки или императива апеллируют к функционально идентичной практике (по крайней мере в том, что мы под ними подразумеваем в контексте обсуждения природы негативных аффектов), а именно к стремлению или побуждению изменить ситуацию. Поэтому «защита desire view будет eo ipso являться защитой эвалюативизма и императивизма» [11, p. 46]. Таким образом, предпочтение desire view, на первый взгляд, не имеет веских теоретических оснований, хотя философ указывает на то, что desire view позволяет избежать трудностей, с которыми не справляется как эвалюативизм, так и императивизм. Однако классический desire view требует переработки, поскольку его атакует дилемма Евтифрона9. Если переживание S является страданием потому, что субъект X желает, чтобы его не было, то раскрывается релятивистская и волюнтаристская природа страдания; отсутствуют какие-либо внутренние критерии неприятности. Если же X желает, чтобы S не было, поскольку оно является страданием, то выходит, что компонент желания излишен – страдание наличествует в любом случае. Новый desire view: «Переживание E, возникающее в момент времени t, является неприятным в момент t, если и потому, что E состоит из ощущения S в момент времени t, и субъект S желает, внутренне и de re, чтобы S не возникало в момент времени t» [11, p. 48].
Т.е. неприятность относится не к одному из компонентов переживания – ощущению боли или желанию, чтобы оно прекратилось, но к переживанию как таковому, соотношению между ощущением боли и желанием, чтобы оно прекратилось. Предлагаемое Брэди определение страдания позволяет отвечать на распространенные возражения как об интернализме, так и об экстернализме и объясняет нормативность страдания и боли, а также наше взаимодействие с ними.
Между тем, решение, к которому приходит Брэди, не выглядит безупречным. С одной стороны, кажется, что философ просто добавляет в существующую конструкцию, выраженную традиционным desire view, новый уровень – переживание, понимаемое как соотношение между ощущением боли и релевантным желанием. Не ясно, является ли данное переживание неприятным, поскольку я желаю, чтобы этого переживания (соотношения между ощущением боли и желанием) не было, или же переживание является неприятным само по себе, и поэтому я желаю, чтобы его не было. Как видно, дилемма Евтифрона не исчезает, но лишь маскируется, касаясь теперь не ощущения боли в отдельности, но переживания в целом. Также переживание, в том виде, в котором оно представлено в контексте нового desire view, выступает как понятие первостепенной значимости. Именно оно, в конечном итоге, конституирует неприятность некоторого опыта, а значит и страдания. Но чтобы у меня возникло желание отсутствия переживания, оно должно быть неприятным. Единственным же источником неприятности может быть ощущение боли и мое релевантное желание ее избежать. Иначе говоря, позиция Брэди подчеркивает своеобразную эзотеричность ощущений страдания и боли.
Исходя из своей аналитической конструкции, Брэди дает финальное определение страдания, основанное на новом desire view: «Субъект страдает тогда и только тогда, когда он имеет (i) неприятное переживание, состоящее из ощущения S и желания, чтобы S не возникало, и (ii) возникающего желания, чтобы это неприятное переживание не возникало» [11, p. 55].
Желания, о которых идет речь, являются разными: одно из них касается ощущения, а другое – отношения субъекта к этому ощущению. Брэди вынужден дробить желания, описывая их таким образом, поскольку в противном случае возникает дилемма Евтифрона.
Страдание как добродетель
Рассуждения Брэди о природе страдания и неприятности следует рассматривать в качестве необходимой подводки к теме страдания как добродетели.
Тот факт, что страдание или боль могут в нужных обстоятельствах обладать инструментальной ценностью, принимается как нечто самоочевидное еще со времен Достоевского. Более того, для таких качеств, как терпение, стойкость или мужество наличие страдания, в крайнем случае – как явной потенциальной возможности субъекта, является необходимым. Нетрудно представить также и то, как бедствие, с которым столкнулись другие люди, побуждает меня проявлять сострадание, доброжелательность или щедрость. Однако Брэди идет намного дальше, когда утверждает, что «формы физического и эмоционального страдания могут сами-по-себе конституировать добродетельные мотивы… В нужных обстоятельствах они являются уместными или подходящими реакциями на различные виды обесценивания, где то, что делает их уместными или подходящими реакциями, состоит в том, что они позволяют нам совладать с таким обесцениванием лучшим образом из возможных» [11, p. 59–61].
Здесь автор опирается на понимание добродетели, заимствованное у Марты Нуссбаум, развивающей нео-аристотелевский подход в рамках теории добродетели. По ее словам, Аристотель «изолирует сферу человеческого опыта, которая в большей или меньшей степени присутствует в любой человеческой жизни и в которой каждому человеку в большей или меньшей степени придется делать один выбор, а не другой, и действовать одним, а не другим образом» [23, p. 35].
В этом смысле добродетели являются стабильными диспозициями, побуждающими нас поступать конкретным образом в данной сфере человеческого опыта. А если такие явления, как боль, скорбь или усталость являются неустранимыми и важными частями нашего жизненного опыта, то существуют способы реагирования на них правильно или неправильно; другими словами, лучше или хуже. Но в этике добродетели или просто в моральной философии понятие «добродетель» концептуально охватывает внутренние качества или черты, которые человек приобретает или активно развивает в себе; т.е. те, которые не являются изначальным элементом его внутренней конституции или следствием естественного процесса. Однако страдание никогда не культивируется субъектом страдания, на что справедливо указывает сам Брэди: «Мы … не учимся чувствовать голод и усталость в процессе “привыкания”, делая то, что делает добродетельный человек, и, в результате, чувствуя то, что чувствует добродетельный человек. Вместо этого эти чувства – как и наши зрительные и слуховые опыты – возникают в нас естественно и непроизвольно. В результате чего такие чувства не отражают то, кем мы являемся в каком-либо глубоком смысле» [11, p. 65–66].
Однако, с моей точки зрения, только в противоположном случае, если бы страдание являлось приобретаемым качеством или способностью, мы могли бы говорить о моральных импликациях страдания. Иначе придется давать оценочные суждения – похвалу или порицание – за предустановленные состояния, за которые человек не несет никакой ответственности. Я акцентирую внимание на этической стороне вопроса, поскольку, с одной стороны, она в первую очередь интересует самого Брэди, с другой, только в этическом дискурсе понятие страдания (как и боли) может получить широкое применение10. Осознавая представленные трудности, Брэди подчеркивает специфическую функцию страдания, утверждая, что оно создает мотивацию поступать определенным об-разом11. Он обращается к пониманию добродетели, развиваемом Линдой Загзебски в исследовании «Добродетели разума»: «Мотив, в том смысле, который имеет значение для исследования добродетели, является эмоцией или чувством, которое инициирует и направляет действие в сторону цели. Мотивы соединены с добродетелями тем, что добродетельные личности склонны испытывать определенные эмоции, которые могут привести их к желанию изменить мир или самих себя определенным образом» [30, p. 131].
Страдание может сформировать такие мотивы. Например, голод мотивирует нас принять пищу, усталость – отдохнуть, обездоленность другого – проявить щедрость. Однако содержательно для
Загзебски добродетели так же, как и для Нуссбаум или Аннас, являются приобретаемыми превосходствами. Именно поэтому она акцентирует внимание на том, что ее интересуют именно эмоции людей, а не чувства в значении ощущений как результата воздействия внешних раздражителей: «Я не стану сейчас обсуждать, все ли мотивы являются формами эмоций или только большинство из них. Все те [мотивы], которые я буду использовать в своих примерах добродетели, являются эмоциями» [30, p. 130].
Брэди признает эту критику и обращается к ре-лайабилистскому подходу в эпистемологии добродетели, цитируя американских философов Джона Греко и Эрнеста Соуза. Релайабилизм (от англ. reliable – надежный) в качестве добродетелей понимает «наши надежные когнитивные способности (зрение, слух, интроспекцию и т.д.)» [2, с. 8]. Это врожденные, предустановленные интеллектуальные добродетели, которые позволяют приходить к обоснованным суждениям. Такое теоретическое наполнение лишает релайабилизм спасительного для страдания импульса, поскольку в этом случае не идет речи ни о каких моральных импликациях этого вида добродетелей; Греко и Соуза используют их исключительно в теории познания. Брэди, в свою очередь, предлагает расширить этизированное понимание добродетели так же, как оно было расширено в рамках эпистемологии добродетели, чтобы оно включало пассивные способности людей. Он исходил из того, что страдание, как отмечалось ранее, не может быть приобретаемым качеством: «Поскольку мы можем подумать, что нам необходимо апеллировать к диспозициям к страданию, в нужной степени и правильных обстоятельствах, чтобы сформировать законченную картину того, что значит хорошо справляться, с практической точки зрения, с достаточно широким диапазоном вызовов и сложностей» [11, p. 68].
Интроспекция, память, зрение – являются способностями, которые обладают определенной производительностью и силой [13, p. 520] и опережают видимых конкурентов на пути достижения определенных целей [26, p. 227–228]; в рамках эпистемологии можно говорить об успешном достижении знания или истины. Исходя из этой логики, Брэди предлагает включить диспозицию к страданию в число факультативных добродетелей. Однако способность, понимаемая в качестве некоторого врожденного компонента субъекта, не зависимого от его воли, намерений или стремлений, когда речь заходит об эпистемологии, представляет собой способность, функция которой никогда не замещается другими умениями людей. Например, память необходима для полноценного понимания отдельных процессов, и сложно представить, чтобы ее функционал мог быть полноценно заменен другими способностями. Подобного нельзя сказать о голоде как причине страдание. Поскольку задолго до того, как недостаток приема пищи начнет приносить вред, мы ощущаем значительно более слабые, но столь же информативно-наполненные команды, например, «я думаю, мне необходимо что-нибудь съесть». Когда дело касается физического страдания, последнее всегда избыточно и нежелательно, оно – пограничная ситуация. Значимость явных проявлений страдания в таких случаях как минимум неочевидна. Даже если мы готовы принять позицию Брэди, согласно которой голод или сильная жажда являются самоценными, то необходимость этих состояний для осуществления определенных реакций – приема пищи или питья воды – сомнительна. Кажется, что в большинстве случаев достаточно некоторой базовой, во многом незначительной физиологической реакции – чувства голода, чтобы я решил ее удовлетворить. При этом, даже если такое желание отсутствует, как, например, бывает после отравления или из-за вирусных заболеваний, сохраняется некоторая интуиция или простая рефлексия, говорящие о необходимости приема пищи. Во втором случае Брэди, наверное, мог бы возразить, что болезнь формирует тот самый добродетельный мотив, но этот аргумент кажется чем-то искусственным и отвлеченным. То есть, страдание не превосходит «видимых конкурентов», чего требует теория Греко и Соузы. Точно так же определенной степени рациональной рефлексии достаточно для убеждения в том, что не следует неаккуратно и спешно нарезать ножом овощи или выпивать залпом горячий чай. Здесь можно говорить о некотором предвкушении-ожидании потенциальной боли, но едва ли оно имеет дело с ноцицептивной системой в ее прямом функционировании. Греко и Соуза рассуждают об интеллектуальных добродетелях, не редуцируя их к моральным, но замыкая в пределах эпистемологии. И мне сложно представить, каким образом то же самое можно сделать в теории морали без серьезного изменения наших привычных представлений о моральной ответственности и повседневных практик взаимодействия друг с другом.
Даже если мы согласимся, что диспозиции к страданию формируют добродетельные мотивы, то возникает очевидное расхождение с тезисом о том, что страдание – плохо по своей сути вне зависимости от его практической функции. Отвечая на это возражение, Брэди обращается к аргументации теоретика добродетели Томаса Хурки, утверждая, что страдание одновременно как отрицательно, так и добродетельно. Хурка называет это рекурсивной характеристикой добра и зла. Допустим, некоторое явление X по своей сути благостно, тогда любовь (желание, преследование, получение удовольствия от любви) по отношению к X ради него самого также по своей сути благостны. И наоборот, если X по своей сути плохо, то ненависть и другое негативное отношение к X – по своей сути благостно. Таким образом, относительно страдания можно сказать, что в некоторых случаях оно создает диспозицию ненавидеть зло, а это состояние добродетели, например: «Угрызения совести кажется ужасным ощущением, и в этом смысле они по своей сути являются для нас плохим состоянием. Но угрызения совести – это также способ ненавидеть или испытывать боль от собственных моральных проступков, и поэтому они считаются формой ненависти к злу. Таким образом, с этой точки зрения, угрызения совести по своей сути плохи по причине того, как они ощущаются, но благостны, потому что они являются формой ненависти ко злу» [8, p. 306].
Как справедливо отмечает Брэди, если вышесказанное верно, то количественный рост страданий в мире должен приводить к равнозначному росту добродетели, поэтому есть все основания для культивации страданий. Опровержение этой логической цепочки встречается еще у Джорджа Мура [21, p. 268]. Вкратце, степень внутренней благости или зла определенного отношения к X всегда меньше, чем степень благости или зла самого X [15, p. 133]. Отсюда добродетельность, происходящая от ненависти к злу, всегда меньше, чем внутренняя отрицательность этого зла.
Логично применить это утверждение к исследованию эвтаназии. Переживание невыносимого страдания как результата неизлечимого недуга следует рассматривать в качестве достаточного условия для одобрения процедуры добровольного ухода из жизни, поскольку в свете неустранимости страдания его внутренняя отрицательность, как и отрицательность связанного с ним состояния, не могут быть преодолены инструментальной добродетельностью страдания; ведь даже если сохраняются его практические функции, польза от реализации некоторой положительной мотивации (n) всегда будет уступать вреду, наносимому страданием (n + 1). И прогнозируемость смерти пациента, судя по всему, не должна играть никакой роли, когда на противоположной чаше весов расположено невыносимое страдание.
В четвертой главе книги Брэди обращается к описанию добродетелей силы и уязвимости. Первые во многом связаны с именем Фридриха Ницше, который считал, что сила предстает в форме позитивного отношения к страданию и что мы должны разыскивать и принимать страдания, чтобы продемонстрировать силу и добродетель в процессе их преодоления [11, p. 90–95]. Однако нам следует обратить основное внимание на уязвимость и болезнь, т.е. второй тип добродетелей, потому что они являются более насущной темой для биоэтического контекста. Опираясь на теорию Хави Карел, Брэди пытается показать, что состояние болезни или физического недуга связано с добродетелями креативности и адаптируемости. Адаптируемость служит описанием поведенческой гибкости, которая позволяет переживающим болезнь, а также людям с ограниченными возможностями «корректировать свое поведение в зависимости от их состояния». Такая адаптация в свою очередь «требует высокой степени креативности, поскольку [человек] отслеживает новые опции, рассматривает новые возможности и тестирует новые стратегии для достижения своих целей» [11, p. 105]. Это выглядит правдоподобно, в конце концов, мы ожидаем некоторой степени сопротивления невзгодам, как от других, так и от самих себя, питая негодование к пассивности там, где еще возможно успешное противодействие. Однако, даже если уязвимость подсвечивает внешнюю добродетельность страдания – поскольку мы получаем возможность развивать добродетели из-за его присутствия, я полагаю, что это должно подразумевать если и не полную устранимость, то переносимость последнего. В противном случае отсутствует то, что Сири Лекнес и Брок Бастиан называют чувством облегчения или освобождения, которое образуется за счет контраста между неприятными переживаниями и их последующим прекращением: «облегчение зависит от реального или воображаемого существования боли, а приятность облегчения тесно связана с отвратительностью события, [влияние] которого удалось сократить или избежать» [20, p. 65]. Постоянное присутствие сильной неприятности вытесняет надежду достигнуть такого облегчения, интенсифицировать приятные ощущения или, повторим, обращать внимание на потенциальную добродетельность актуального положения дел.
Разумеется, что все зависит от человеческого выбора – актуального или оформленного в виде предварительной директивы; другими словами, недобровольная эвтаназия является преступлением и грубым нарушением автономии пациента. Трудности возникают в точке пересечения автономии, поднимая вопросы о ее границах, и ситуации неопределенности, а именно тогда, когда страдание проистекает из недуга, относительно которого нельзя однозначно заявить, что его нельзя исправить, устранив тем самым страдание. В большинстве своем это касается психологического страдания, о чем уже было сказано выше. Правильным ли будет решение удовлетворить осознанную и устойчивую в течение относительно длительного периода времени просьбу пациента о прекращении его жизни, при том что положение дел потенциально может измениться? Я склонен отвечать на этот вопрос положительно, понимая при этом, что реальность противится холодному теоретизированию и обобщениям и заставляет уделять внимание каждому конкретному кейсу в отдельности. Критерии для допуска к эвтаназии призваны провести разделительную полосу между жизнью, когда она стоит того, чтобы ее поддерживать, и ситуациями, когда она лишается своей ценности; или, выражаясь языком биоэтики, когда вред от продолжения жизни превышает пользу от ее окончания. Однако вне зависимости от той степени точности, которую эти критерии утверждают, универсально удовлетворительное решение – необходимое для достижения консенсуса в вопросе о допустимости эвтаназии – непрестанно ускользает. Причина неудачи кроется в невозможности примирить радикально противоположные в своей аргументации этические теории. В попытках устранить препятствие можно обратиться к позиции, согласно которой между этической теорией и прикладной этикой (которой в этом случае является биоэтика) есть заметная разница. Как замечает философ Уилл Кимлика, когда речь заходит о принятии конкретных решений в области медицины (если ограничиваться проблемой эвтаназии), то серьезное отношение к морали не обязательно подразумевает серьезного отношения к моральной философии [18]; скажем, бескомпромиссное несогласие между деонтологией и консеквенциализмом по тем или иным этическим вопросам отстраняет нас от фактического реше-ния и не позволяет предложить его людям, жизни которых зависят от него. Поэтому в биоэ-тическом контексте следует отказаться от обраще- ния к «высокой» моральной теории и разрабатывать узконаправленные принципы. Плодотворен такой подход или нет, в любом случае, я полагаю, что он не избавляет нас от подсвеченных в тексте трудностей; от необходимости анализировать страдание, ведь даже если мы артикулируем тавтологичное определение феномена – страдание есть страдание, отсылая к интуитивно схватываемому значению его содержания, то остаются открытыми вопросы, связанные с нашим отношением к тем состояниям, которые мы считаем страданием, а также их (состояний) интерпретациями; вопросы, эксплицитно поднимаемые в связи с дихотомией физического и ментального страдания. И на мой взгляд, пристальное внимание к тому, каким в действительности значением обладает страдание, может избавить нас от многих неопределенностей как в мысли, так и в клинической практике и разработке новых политик в области биоэтики.
Заключение
Несмотря на высказанную в отношении книги Брэди критику, ее эвристический потенциал остается высоким. «Страдание и добродетель» закладывает фундамент, который можно использовать в качестве отправной точки для дальнейшего развития мысли в области философии страдания и который уже был использован таким образом; для этого стоит, как минимум, вспомнить две коллективные монографии – «Философия боли» [9] и «Философия страдания» [8], вышедшие в 2020 г., спустя два года после публикации книги Брэди. Для каждой из них философ выполнял задачи редактора в паре с двумя другими специалистами, а также написал по одной статье.
Понимание природы и сущности страдания в рамках моральной философии и биоэтического дискурса позволит приблизить нас к решению проблемы эвтаназии, которая расщепляется на вопросы о пределах человеческой автономии, способности принятия решений, воздействии страдания на содержание желания, намерения и поступка. В любом случае, мы указали лишь на вершину айсберга. Ведь если случаи невыносимого физического страдания в большинстве случаев самоочевидны, то ментальное страдание гораздо сложнее для верификации. Относительно недугов психологического характера зачастую сложно говорить как о том, что они неизлечимы, так и о том, что они причиняют невыносимое страдание, а состояние человека не может быть улучшено. На руках у специалистов, ответствен- ных за принятие окончательного решения об одобрении эвтаназии, в каждом конкретном случае остаются только слова и надежды людей, которые здоровая человеческая эмпатия ожидаемо мешает воспринимать через холодный объектив заданных критериев. Положение усложняется тем, что даже в случаях неизлечимых состояний физической этиологии источник «невыносимого страдания» и повод для прошения об эвтаназии имеют «психологическую основу: зависимость от ухода, потерю автономии, одиночество, отчаяние, чувство никчемности, изоляцию, исчезновение социальных контактов» [14, p. 39–40]. В то же время редуцирование отношения к страданию до простой калькуляции его поверхностных – видимых – проявлений радикально упрощает реальную многогранность феномена и остается невнимательным к индивидуальным переживаниям людей. Не должны ли такие ситуации, когда невыносимое психологическое страдание Y как результат неизлечимого физического недуга X, приниматься достаточным для допустимости эвтаназии, оставляя прерогативу оценки в руках субъекта страдания? Если нет, то почему? Если да, то не следует ли из этого, что с чисто психологическими страданиями или «усталостью от жизни» следует поступать так же? Это крайне непростые вопросы, на которые важно отвечать – и отвечать по-разному, расширяя пространство дискурса. Майкл Брэди сделал важный шаг в этом направлении. Поэтому можно перевести его сослагательную риторику в утвердительную форму: завершая введение, философ отметил, что если его мысль станет отправной точкой для дальнейших исследований, то он посчитает это достижение достаточным.
Список литературы О природе и значении страдания: размышления над сюжетами книги М. Брэди
- Арендт Х. Vita Activa, или О деятельной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.
- Каримов А.Р. Эпистемология добродетелей. СПб.: Алетейя, 2019.
- Платон. Полное собрание сочинений в одном томе. М.: Альфа-Пресс, 2017.
- Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М.: Эксмо, 2018.
- Annas, J., 1993. The morality of happiness. New York: Oxford University Press.
- Annas, J., 2011. Intelligent virtue. Oxford: Oxford University Press.
- Austen, I., 2022. Is choosing death too easy in Canada? URL: https://www.nytimes.com/2022/09/18/world/canada/medically-assisted-death.html
- Bain, D., Brady, M. and Corns, J. eds., 2020. Philosophy of suffering: metaphysics, value, and normativity. London; New York: Routledge.
- Bain, D., Brady, M. and Corns, J. eds., 2020. Philosophy of pain: unpleasantness, emotion, and deviance. London; New York: Routledge.
- Battaly, H., 2015. Virtue. Cambridge: Polity Press.
- Brady, M., 2018. Suffering and virtue. Oxford: Oxford University Press.
- Brooks, D., 2023. The outer limits of liberalism. What happens when a society takes individualism to its logical conclusion? URL: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2023/06/canada-legalized-medical-assisted-suicide-euthanasia-death-maid/673790/
- Greco, J., 1992. Virtue epistemology. In: Dancy, J. and Sosa, E. eds., 1992. A companion to epistemology. Oxford: Blackwell, pp. 520–522.
- Haekens, A., 2021. Euthanasia for unbearable psychological suffering. In: Devos, T. ed., 2021. Euthanasia: searching for the full story: experiences and insights of Belgian doctors and nurses. Cham: Springer, pp. 39–47.
- Hurka, T., 2001. Virtue, vice, and value. New York: Oxford University Press.
- Jones, D.A., Gastmans, C. and Mackellar, C. eds., 2017. Euthanasia and assisted suicide: lessons from Belgium. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kauppinen, A., 2020. The world according to suffering. In: Bain, D., Brady, M. and Corns, J. eds., 2020. Philosophy of suffering: metaphysics, value, and normativity. London; New York: Routledge, pp. 19–37.
- Kymlicka, W., 1996. Moral philosophy and public policy: the case of new reproductive technologies. In: Sumner, L.W. and Boyle, J., 1996. Philosophical perspectives on bioethics. Toronto: University of Toronto Press, pp. 244–270.
- Legality of euthanasia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_euthanasia
- Leknes, S. and Bastian, B., 2014. The benefits of pain. Review of Philosophy and Psychology, Vol. 5, pp. 57–70.
- Moore, G.E., 1993. Principia ethica. Cambridge: Cambridge University Press.
- New medical assistance in dying legislation becomes law. URL: https://www.canada.ca/en/department-justice/news/2021/03/new-medicalassistance-in-dying-legislation-becomes-law.html
- Nussbaum, M.C., 1988. Non-relational virtues: an Aristotelian approach. Midwest Studies in Philosophy, Vol. 13, no. 1, pp. 32–53.
- Nys, H., 2017. A discussion of the legal rules on euthanasia in Belgium briefly compared with the rules in Luxembourg and the Netherlands. In: Jones, D.A., Gastmans, C. and Mackellar, C. eds., 2017. Eu-thanasia and assisted suicide: lessons from Belgium. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 7–26.
- Opinion no. 73 of 11 September 2017 on euthanasia in case of non-terminally ill patients, psychological suffering and psychiatric disorders. URL: https://www.health.belgium.be/ sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/opinion_73_web.pdf
- Sosa, E., 1991. Knowledge in perspective: selected essays in epistemology. Cambridge: Cambridge University Press.
- Teroni, F., 2020. Valence, bodily (dis)pleasure, and emotion. In: Bain, D., Brady, M. and Corns, J. eds., 2020. Philosophy of suffering: metaphysics, value, and normativity. London; New York: Routledge, pp. 103–123.
- The role of the physician in the voluntary termination of life. URL: https://www.consciencelaws.org/archive/ documents/ 2011-08-30% 20KNMG- positionpaper.pdf
- «What could help me to die?» Doctors clash over euthanasia. URL: https://www.statnews.com/2017/10/26/euthanasia-mental-illness/
- Zagzebski, L., 1996. Virtues of the mind: An inquiry into the nature of virtue and the ethical foundations of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.