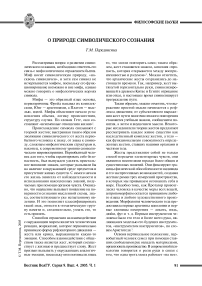О природе символического сознания
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14967563
IDR: 14967563
Текст статьи О природе символического сознания
Рассматривая вопрос о развитии символического сознания, необходимо отметить его связь с мифологическим отражением бытия. Миф носит символическую природу, «насквозь символичен», и хотя сам символ не исчерпывается мифом, поскольку его функционирование возможно и вне мифа, однако можно говорить о мифологических корнях символа.
Мифы — это образный язык основы, первопричины. Фрейд называл их комплексами, Юнг — архетипами, а Платон — мыслью, идеей. Мифы объясняют начало установления обычая, логику происшествия, структуру случая. По словам Гете, они составляют «неизменные отношения жизни»1.
Происхождение символа связывают с теорией жестов; выстраивая таким образом эволюцию символического: от жеста первобытного человека к знаку, от знака к символу, сложным мифологическим структурам и, наконец, к современному уровню символического мировосприятия. Первобытный человек для того, чтобы гарантировать себе безопасность, был вынужден уделять пристальное внимание знакам, которые указывали бы на наличие в окружающей среде предметов и присутствие живых существ. С самого начала его жизнь зависела от наблюдательности и использования накопленных знаний, получаемых при помощи органов чувств. Очевидно, что ощущение вызывает появление на поверхности сознания мысленной схемы, знака, соответствующего уже испытанному явлению. И это позволяет классифицировать такой знак, отнести в «тематическую» группу памяти и, следовательно, узнать его, то есть принять.
Способом отражения на взаимодействие с окружающим миром является человеческая реакция, возражение, которое первоначально принимало форму рефлекторного движения — жеста или крика, выражающего какую-то эмоцию. Способом взаимодействия с обществом также является жест, который сосуществует с жизнью и предшествует слову. Жест призван вызывать у окружающих аналогичные эмоции, поскольку они понимали лишь то, что могли повторить сами; таким образом, жест становится знаком, заполняя «пропасть, которая открывается между восприимчивостью и разумом»2. Можно отметить, что архаические жесты сохранились до настоящего времени. Так, например, жест вытянутой горизонтально руки, символизировавшей в древнем Китае и Египте отрицание или отказ, в настоящее время символизирует преграждение пути.
Таким образом, можно отметить, что выражение простой мысли начинается с рефлекса движения; от субъективного выражения жест путем многочисленного повторения становится учебным знаком, сообщением понятия, а затем и внушением мысли. Некоторые исследователи теории жестов предлагают рассматривать каждое живое существо как наследственный комплекс жестов, а тело — как функциональную совокупность определенных жестов, ставших нашими органами и частями тела.
Жесты представляют собой не только способ передачи элементарных чувств, они являются носителями гораздо более общих и существенных понятий. Они фиксируют границы физической обособленности индивида и его экспрессивных возможностей, создавая жесткие рамки трех измерений пространства, в которых мы привыкаем осознавать себя в мире. Подобно тому, как Протагор провозгласил человека в качестве меры всех вещей, антропоморфизм остается принципом любого языка и любого художественного произведения. Морфология человеческого тела предоставила первые архетипы идеологии и первые единицы измерения — локоть, пядь, дюйм, фут и т. д. Первым инструментом человека было его тело и более всего рука, являющаяся моделью его будущих инструментов, «инструментом инструментов», по словам Аристотеля3.
Освоив вертикальное положение, первобытный человек сумел при помощи ставших свободными рук овладеть материалами, организовать производство. В современной психологии говорится о роли руки в связи с тем, что одна треть мозга работает «на нее».
Благодаря чувствительности, превосходящей чувствительность других частей тела, рука стала по преимуществу органом-детектором, производителем предметом, оператором знаков и самым поливалентным инструментом. Не случайно в некоторых языках от латинского «signum» (знак) происходят глаголы «резать», «пилить» и т. п.; то есть знак — это то, что было нарезано, вырезано рукой на коре дерева.
С происхождением языка мы можем говорить о появлении символов. Появление языка связывают с различными источниками: имитационным — язык возник в результате ономатопеи, звукоподражания, имитируя естественные шумы и звуки; эмоциональным, согласно которому язык образовывался постепенно, складываясь в слова от спонтанно экспрессивных звуков, связанных с определенными чувствами; гармоническим — язык возник из символической связи между звуком и его импрессионистским впечатлением; социальным — язык родился из песен или хорового пения, сопровождающего мускульное напряжение во время коллективной работы. Можно брать за основу возникновения языка любой из случаев, описанных каждой теорией, или в отдельности, или все вместе; одно остается несомненным: «Человек стал пользоваться языком символов, как только произнес первое слово. С тех пор мы существуем в мире символов, они неотъемлемая составляющая развития цивилизации»4.
Считается, что простым, общим словам предшествовали имена собственные, указывавшие на конкретную, единичную вещь или субъекта; так, для обозначения одного и того же предмета могло находиться множество обозначений, передававших его различные аспекты; каждая группа имела свой словарь. Однако такая «специализация», привязанная к персонифицированной реальности, отторгала всякое обобщение и препятствовала экспрессии движения и переменам, облегчающим путь преобразования имени в символ. Этому переходу особенно содействовала общественная работа, а использование инструментов, в свою очередь, требовало более гибкого владения языком. В узком смысле язык символов появляется, когда слово начинает использоваться для передачи какого-то чувства или мысли. В. Гумбольдт говорит в этой связи о «первородном импульсе», то есть первом движении в жесте, начале бессознательного проявления мимики; вещи подсказывают нам движение. Эти два понятия (вещь и жест) соединяет символическое слово.
Рассматриваемая в самой обширной концепции теория жеста устанавливает виртуальную связь между отдельными состояниями, в особенности когда первоначальный жест трансформируется в ритм путем повтора. Действие производит эффект последовательным образом и может избежать временного состояния лишь благодаря ритму, управляющему жестами, ритуалами и символическим языком.
Ритуал можно определить как ряд жестов, отвечающих основным потребностям, которые необходимо осуществить в соответствии с некоторой соразмерностью. Существует родство, — считает Р. Генон, — между символом и ритуалом. Не только потому, что любой ритуал является реализуемым во времени символом, но потому, что графический символ приходит на смену ритуальному жесту. Символ, таким образом, — это «всего лишь фиксация ритуального жеста»5.
Говоря о происхождении символа в отношении его к языку, можно выделить особенности слово- и символообразования в зависимости от образа жизни архаичных народов. Так, кочевым народам (или пастухам), деятельность которых распространяется на животный мир, приписывается образование слов (символов), адресуемым органам слуха. Что касается оседлых народов, земледельцев и строителей, они имели дело с растительным миром и миром минералов, пользуясь символическим языком фиксированных знаков, адресуемых зрению, таких как письменность, архитектура и искусство ваяния, в то время как письмо само по себе было фиксацией языка. Можно, таким образом, говорить о разных уровнях символизации бытия: если кочевые народы, странствуя в пространстве, создавали поэзию и музыку, основанную на ритме времени, то оседлые, привязанные к месту на протяжении времени, осваивали пространство, создавая пространственные символы. Если в первом случае можно говорить о предпосылках художественного творчества, то во втором — о зарождении умозрения и абстрактной мысли, чему способствовало мифическое пространство.
Как уже отмечалось, архаичный человек мифологизировал природу, объясняя ее доступным ему образом, ввиду ощущения собственной незащищенности перед силами природы, и особенно перед наиболее недоступной ему трансцендентальностью неба. Отсюда множество мифов, связанных с небом, его сакральный характер. Небесная полусфера сравнивалась с куполом, сводом, прибитым над землей, тяжелой крышкой, накрывающей и одновременно защищающей их. Даже у цивилизованных народов небо представлялось в виде, например, золотого зонта, защищающего Будду, зонтика восточных правителей, голубя Святого Духа, прикрывающего весь мир своими распростертыми крыльями, и даже в виде балдахина, который возвышается над новым Папой после выбора его конклавом. Чувствуя свое бессилие на Земле, человек наделял сакральным содержанием небесные тела, и даже птиц, считая их посланниками богов; отсюда происходит возвышение всего, что связано с крыльями и перьями птиц, символизировавших высшие состояния существа. Так, перья украшают прическу вождя у американских индейцев; крылья Гермеса, посланника богов, прикрепляются к ступням, освобождая его тем от силы тяжести, как и легкие шаги буддистских святых, чья походка может стать «воздушной».
Солнце, пронзающее тучи лучами и являющее собой горящее сердце и всевидящее око — известный символ небесной духовности. Этот символ был перенесен на золотую корону, украшенную драгоценностями, имитирующими блеск небесного светила; у святых был также свой ореол, а победители игр награждались лавровыми венками, символом бессмертия. Культ солнца был всемирным, оно наделялось космическим разумом, который светит и, следовательно, управляет таинствами. Таким образом, появляется мысль о солнце как о центре мира, символом которого оно является; геометрическое представление о центре — точка в середине круга. Отсюда происходит преставление о небе как круге, круг символизирует небо. Земля же имеет черты квадрата, поскольку солнце фиксирует ее оси, благодаря крайним точкам своего пути, которые делят ее на четыре части, каждая из которых представляет собой одно время года и одну из четырех сторон света.
В качестве наиболее значимых, наряду с символами центра мироздания, следует отметить символы, имеющие посредническое значение между земным, вещественным и небесным, обожествляемым миром. Классифицируя эти символы, можно выделить три группы таких посредников: элементарные посредники (свет, огонь, воздух, вода), космические посредники (планеты, числа и цвета); земные посредники (архитектура). Если продолжать нисхождение из небесного мира в мир земной, то можно также говорить о подземном мире.
Три элемента — огонь, воздух и вода — символизируют влияния, которые земля испытывает со стороны небесного огня в виде света и тепла, в то время как ветер и дождь зависят от промежуточного пространства. Свет — это видимое проявление невидимого мира, сопровождающее все божественные создания. Божественное повеление, разделяющее свет и тьму, изначально перемешанные, свидетельствует о его созидательной мощи и силе, до того скрытой в ночи непознаваемого. Таким образом, солнечный свет идентифицируется с разумом и озарением в момент познания, тогда как лунный — всего лишь рациональное отражение мысли.
Культ огня берет начало в духовной природе света; очистительный огонь на алтаре искупительной жертвы всегда сопровождал как восшествие на престол, так и «Божий суд». В индийской философии огонь представлен в виде богов: бог солнца Индра, мечущий стрелы молний, Сурья — солнечное божество, согревающее мир, Агни — являющий озарение разума, а также волю, покоряющую мир. В античной философии, у Гераклита мир представляется вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим; душа у Демокрита имеет огненную основу.
Воздух — чистый элемент промежуточного мира, посредник между небом и землей, между огнем и водой; это — среда, в которой проявляется божественное дыхание. Воздух — эманация дыхания Духа, который в бытии перемещается над первичными водами, чтобы разделить их и сотворить мир. В Индии это — Атман, дыхание мирового разума; вселенная представляется сотканной из нити Атмана, человек соткан и сотворен из всех пяти дыханий, или вдохновений, чувств, которые связывают в одно целое всякую жизненную энергию. Йога основана на овладении космическим дыханием, что приводит к совершенствованию разума. В греческой натурфилософии — у Анаксимена — воздух предстает в качестве первоосновы мира, из которого путем разрежения возникает огонь, а путем сгущения — ветер, облака, вода, земля и камни.
Вода — источник жизни, она представляет бесконечные возможности для использования, предполагает развитие и в то же время гибельные опасности всякого рода. Окунать- ся в воду — значит вернуться к истокам. В Индии вода — сущностная форма материи, изначальной субстанции пракрити, в то время как будущий мир покоился на дне первичного океана. Вода у Фалеса — первооснова всего сущего, первостихия, все живое вышло из воды, «вода есть наилучшее»6. В христианстве погружение в воду означает регенерацию, крещение — это второе рождение, осуществляемое при посредничестве воды.
Небесные тела, звезды и планеты играли тем более важную символическую роль, что все, касающееся неба, носило священный характер; закономерность их движения всегда привлекала внимание астрологов, ставших первыми математиками. Полярная звезда, играющая роль перводвигателя, вокруг которого вращается небесная сфера, стала одним из первых символов. Пятиконечная звезда — пентаграмма — считалась образом микрокосма человека. Пентаграмма, будучи тайным опознавательным знаком пифагорейцев, с математической точки зрения соответствует иррациональному числу, золотому сечению, выраженному средней величиной пропорции. Она определяет идеальное соотношение частей человеческого тела.
Обращая внимание от космических явлений к явлениям земным, человек также наделяет их символическим значением. Одним из первых таких символов является дерево. Дерево же является самым древним строительным материалом, греческое слово «hyle» (дерево) одновременно означает ма терию вообще. Замена живого дерева на мертвый камень, аналогичная замене кочевой жизни на оседлую, ознаменовала новый этап одновременно и развития ремесла и мифотворчества. Камень также получил символическое значение; священные места с горных вершин перемещаются в глубину пещеры, камень применяется для строительства храмов. Образ пещеры как подобия мира развит в концепции Платона о чувственном мире и мире вещей.
Еще одним моментом, который необходимо отметить, анализируя происхождение символа, является его социальный характер. Символ «может быть только общественным символом; он, в сущности, выражает только некоторые общественные отношения»7. Появившись как результат процессов коммуникации, феномен символа рассчитан на интерпретацию его, согласно исторически сложившимся условиям социокультурной среды.
Список литературы О природе символического сознания
- Бенуас Л. Знаки, символы и мифы/Пер. с фр. А. Калантарова. М.: Астрель: АСТ, 2004. С. 7.
- Там же. С. 22.
- Бюллер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М.: Прогресс, 1993. С. 97.
- Бенуас Л. Указ. соч.
- Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии. Ереван, 1980.
- Рассел Б. История западной философии. Ростов н/Д: Феникс, 2002. С. 43.
- Свасьян К.А. Указ. соч.