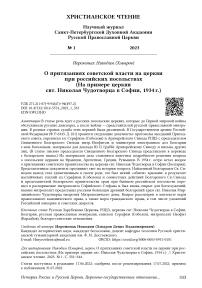О притязаниях советской власти на церкви при российских посольствах (на примере церкви свт. Николая Чудотворца в Софии, 1934 г.)
Автор: Хмыров Денис Владимирович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковно-государственные отношения в советский период
Статья в выпуске: 1 (104), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет о русских посольских церквях, которые до Первой мировой войны обслуживали русские диаспоры, а после войны - представителей русской православной эмиграции. В разных странах судьба этих церквей была различной. В Государственном архиве Российской Федерации (Ф. Р-6343. Д. 221) хранятся следующие документы: протоколы заседаний Приходского совета, переписка еп. Серафима (Соболева) и Архиерейского Синода РПЦЗ с председателем Священного Болгарского Синода митр. Неофитом и министром иностранных дел Болгарии г-ном Батоловым, материалы для доклада Ю. П. Граббе Архиерейскому Синоду и письма других лиц. (В статье письмо председателя Священного Болгарского Синода представлено в переводе с болгарского языка.) Из материалов дела становятся известны подробности решения вопроса о посольских церквях во Франции, Аргентине, Греции, Румынии. В 1934 г. остро встал вопрос о притязаниях советского правительства на церковь свт. Николая Чудотворца в Софии (Болгария). Представленные документы проливают свет на историю вопроса. Найденный Болгарским Св. Синодом выход стал единственным в своем роде, это был некий «обмен» храмами: в результате настойчивых усилий еп. Серафима (Соболева) и совместных действий Болгарского Св. Синода и представителей болгарского правительства храм при бывшем российском посольстве перешел в распоряжение митрополита Софийского Стефана и был вновь открыт для богослужений; взамен митрополит предоставил русским беженцам древний болгарский храм свт. Николая Мирликийского Чудотворца напротив Митрополичьего дома. Вопрос рассмотрен в контексте норм православного канонического права, а также норм гражданского права, в том числе уложений Российской империи и советских декретов.
Русская зарубежная церковь, рпцз, церковь свт. николая чудотворца в софии, болгария, русская православная эмиграция, епископ серафим (соболев), митрополит неофит (караабов), болгаро-советские отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/140297248
IDR: 140297248 | УДК: 271.2(1-87)-9:94(47)+94(497.2) | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_1_333
Текст научной статьи О притязаниях советской власти на церкви при российских посольствах (на примере церкви свт. Николая Чудотворца в Софии, 1934 г.)
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
Во всех странах русского рассеяния православная эмиграция сталкивалась с существенными проблемами. В их числе важное место занимали материальные трудности паствы и самой Церкви (как результат утраты покровительства со стороны государства и как следствие положения «Церкви меньшинства», «Церкви беженцев»), возникающие из-за угрозы национализации имущества, отсутствия источников финансирования, налоговых претензий со стороны государства, необходимости по-новому выстраивать отношения с властями, зачастую в сложной политической ситуации.
В фонде Р-6343 ГАРФ хранится дело № 221, в котором содержится ряд документов, касающихся судьбы церкви свт. Николая Чудотворца в Софии: протоколы заседаний Приходского совета, переписка еп. Серафима (Соболева) и Архиерейского Синода РПЦЗ с председателем Священного Болгарского Синода митр. Неофитом и министром иностранных дел Болгарии г-ном Батоловым, материалы для доклада Ю. П. Граббе Архиерейскому Синоду и письма других лиц1. Ситуация, сложившаяся в 1934 г. вокруг этого храма, отражает характерные черты и тенденции своего времени.
Закладка церкви свт. Николая Чудотворца в Софии состоялась 2 сентября 1907 г. К 1911 г. здание вчерне было готово, но отделка и роспись продолжались еще более двух лет. После вступления в октябре 1915 г. Болгарии в Первую мировую войну на стороне Центральных держав (против России), дипломатические отношения между Болгарией и Россией были прерваны, дипломатическая миссия и русское духовенство эвакуированы в Россию, богослужение в храме прекращено.
Со 2 января 1920 г. до начала 1923 г. в Софии действовала русская дипломатическая миссия правительства генерала А. И. Деникина; на нее возлагалась защита интересов русских беженцев и Русской Церкви в Болгарии. После закрытия миссии ее имущество вместе с имуществом церкви было опечатано комиссией, назначенной Министерством иностранных дел и исповеданий Болгарии. Храм находился в юрисдикции Русской Православной Церкви заграницей и продолжал действовать, но без своего имущества и архива — до 1933 г., когда, в преддверии установления болгаро-советских дипломатических отношений, правительство Народного блока решило передать церковное имущество настоятелю русской церкви в Софии о. Н. Владимировскому.
Состояние прихода до 1931 г. было вполне устойчивым — об этом говорит документ, принятый на заседании Общего Приходского собрания 14 июня 1931 г. Это обращение к прихожанам по поводу личных пожертвований на содержание церкви.
«Милостивый государь!
Последние 3 года церковное хозяйство Русской Свято-Николаевской церкви было в хорошем положении, и все обыкновенные и чрезвычайные нужды были удовлетворены. Такое состояние хозяйства являлось следствием отзывчивого отношения в Церкви прихожан, несших трудовую копейку в церковь (на свечи, тарелочный сбор, просфоры и т. д.).
Однако нужды растут, и без особых мер становится трудно свести бюджет без дефицита. Общее приходское собрание 14 июня сего 1931 г., увеличив статьи дохода, указало хозяйственному органу храма — Приходскому совету на необходимость реорганизации одной из мер поднятия доходов храма — самообложения. Мера эта проводилась и в предшествующие годы, но, к сожалению, непланомерно.
Напоминая Вам о вышесказанном постановлении Общ. Прих. собрания, Приходской совет высказывает уверенность в том, что Вы с сочувствием отнесетесь к нему и определите, сообразно с своими материальными возможностями, сумму ежемесячного взноса, Вами уделяемого для нужд церкви.
Благоволите на прилагаемом бланке указать размер взноса, а также адрес и время, удобное Вам для явки сборщика»2.
Но летом 1934 г. судьба церкви оказалась под угрозой. В письме неустановленного лица к управляющему Синодальной канцелярией Ю. П. Граббе от 24 июня сказано:
«Пришлите, пожалуйста, как можно скорее всё, что Вы можете дать для защиты русской церкви от передачи ее большевикам. Я не думаю, чтобы ( неразб. ) здесь скоро состоялось. Вопрос этот здесь реально поднимается, но Министерство иностранных дел просит побольше материалу, что и как происходило в других странах. Их главным образом интересует практика по этому вопросу других стран. Посылаю Вам копию письма Преосвященного Серафима — митрополиту Неофиту»3.
Письмо еп. Серафима, о котором здесь говорится, датировано 9 (22) июня 1934 г. и представляет развернутую историю вопроса о церковном имуществе в целом и Николаевской церкви в частности4.
«Церковное имущество, — пишет еп. Серафим, — не есть государственное имущество, как, например, здание посольства, и поэтому нет никакого основания считать собственником церковного имущества, вне России находящегося, советскую власть. Церковное имущество принадлежит верующему народу. Советской власти пришлось уступить властному требованию русского народа и отдать в его пользование часть церковного имущества в России. Церковное имущество вне России находится во власти той части русского народа, который ушел из-под гнета большевиков. Эта часть русского народа “в рассеянии сущего” организована канонически за границей и, в частности, в Болгарии, управляется Собором и Синодом русских архиереев заграницей через Епископа — Управляющего Русскими Православными общинами Болгарии. <...>
Практика признания советской власти христианскими правительствами показала, что там, где церковь оказывалась посольской, т. е. находилась в самом посольском здании, была, так сказать, домовой, — она разделяла судьбу самого здания посольства, сдаваемого большевикам при их признании. В тех же странах, где можно было говорить о территориальной разделенности церкви и посольского здания, правительство стремилось сохранить церковь за русскими, приютившимися на основании международного права убежища у них»5.
Далее еп. Серафим приводит примеры того, как правительства разных стран пытались отстоять права русских прихожан на церковь:
«Во Франции правительство секвестрировало церковное имущество, оставив его в пользовании эмигрантской общины, которая в судебном порядке оспаривает свое право собственности на это имущество. Процесс этот имеет затяжной характер, а фактическая власть остается за эмигрантской общиной. В Аргентине просто декретом Президента республики — представителем русской церкви и распорядителем ее церковного имущества признан настоятель русской православной общины в Аргентине о. протопресвитер Изразцов, вместо бывшего Российского дипломатического предстоятеля.
Что касается православных стран, то Греция, несмотря на энергичные домогательства советского представителя, русской посольской церкви не отдала большевикам, отчасти благодаря ревнительному и энергичному вмешательству митрополита Хризостома, заявившего, что он не допустит этой передачи и не остановится перед самыми решительными мерами, вплоть до закрытия церкви своею властью.
В Румынии, по последним сведениям, церковь тоже не передается советскому представительству» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 9 об.).
Подробно описана ситуация в соседней Югославии:
«В Югославии, в случае признания там Советов, вопрос о церкви не будет подниматься, так как русская церковь в Белграде построена на эмигрантские деньги уже в годы изгнания — и там очень интересно обстоит вопрос с Российским посольством. По сведениям от Белграда, Югославское правительство отдало организованной и законно легализованной группе русских эмигрантов в аренду на 99 лет землю и здание б.[ывшего] Российского посольства, где уже на пожертвованные средства построен дом Имени Государя Императора Николая II.
Вот краткий обзор положения русских церквей в других странах» (ГАРФ. Ф. Р-6343.
Оп. 1. Д. 221. Л. 10).
Затем еп. Серафим переходит к положению дел собственно в Болгарии.
«Что касается Болгарии, то здесь имеются следующие три главные русские святыни: Церковь Св. Николая Чудотворца на бульваре Царя Освободителя, храм-памятник на Шипке и Св. Спасов монастырь около горы [Бакаджик]. Относительно последних двух святынь не придется много говорить, так как Шипковский памятник — памятник Освободительной войны — есть памятник Болгарского народа, и постройка его производилась на собранные пожертвованные средства. Монастырь Св. Спаса есть тоже памятник Освободительной войны, построен на средства освободительных войск и поддерживается теперь сборами благочестивых паломников, ежегодно приходящих на поклонение в часовню Св. Вознесения Господня.
Что же касается русской церкви Св. Николая в Софии, то с ней вопрос обстоит несколько сложнее, благодаря слитности ее с территорией б.[ывшего] Российского посольства. И хотя церковь и не построена на самой посольской земле, и нет основания поэтому распространения на нее права международной экстерриториальности, но всё же может возникнуть точка зрения, утверждающая обратное, благодаря тому, что земля, в свое время отчужденная Софийской общиной у частного владельца, была передана Русской Церкви в дар и управлялась, согласно общему положению до войны, Викарным С.- Петербургским митрополитом» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 11).
В письме еп. Серафим приводит доводы, которые можно было бы использовать для защиты прав русских эмигрантов на эту церковь: «В доказательство утверждения, что церковь построена не на посольской земле и, следовательно, не экстерриториальна, можно провести несколько соображений: во-первых, земля приобретена для Русского посольства, приобретена ( неразб .) в 1879 году, а земля под церковь пожертвована в 1908 г. В основе этих двух приобретений лежат два разных акта. <...> Последнее пожертвование было сделано со специальной целью — постройки церкви, которая выстроена фасадом на главную улицу и отгорожена от посольского здания капитальной каменной стеной. Главный вход в церковь из города. Изложенное выше дает возможность рассматривать русскую церковь в Софии как имущество церковное, а не государственное» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 11 об.).
В качестве другого довода еп. Серафим приводит факты из истории этой церкви: «Помимо этих соображений есть и фактическое положение. Только год русская церковь Святителя Николая обслуживала религиозные нужды Русского Посольства и немногочисленной русской довоенной колонии в Софии, после чего, вот уже больше 13 лет она служит как церковь приходская с выборными приходскими органами, обслуживая многочисленную русскую колонию. Приходская жизнь была организована Управляющим Русскими Православными общинами в Болгарии в 1921 году на Общем приходском собрании, которое состоялось 8 сентября того же года» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 12 об.).
Важным моментом в этом споре был вопрос о земле, на которой была построена церковь. Епископ Серафим пишет:
«Возвращаясь к вопросу о переданной под церковь земле, надо сказать, что эта передача земли общиной вызвала судебный спор со стороны собственников этого участка земли, недовольных этим, что у них эту землю община отчудила [от слова “отчуждение”] без законного акта отчуждения и дала взамен другую. Спор этот между наследниками собственника отчуждённой земли и Софийской общиной еще, судя по заявлению адвоката наследников, г-на Данева(?), не окончен. И потому земля эта является спорной. Оспаривается акт отчуждения, в смысле его законности, естественно, этим самым оспаривается и вторичный акт передачи спорного имущества. Это общее положение. Передача незаконно приобретенного имущества в третьи руки, хотя бы ими совершена законно, в случае доказанности — парализует вторую сделку. Чужое имущество нельзя передавать, даже на вполне законном основании, как свое, третьему лицу. С момента оспаривания первой сделки, под знаком юридического согласия находится и вторая сделка» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 13).
Такой спорный статус церковной земли, как ни странно, поддерживал позицию Русской Зарубежной Церкви: «Спорное состояние этой земли делает ее, конечно же, неспособной пользоваться иммунитетом экстерриториальности».
И только в заключение иерарх Русской Зарубежной Церкви взывает к аргументам религиозным, основанным на чувстве общей принадлежности русского и болгарского народа к христианству.
«Если признать экстерриториальность за русской церковью в Софии, то, чтобы быть логическим до конца в этом признании, придется спокойно смотреть, если большевики захотят в целях пропаганды безбожия сделать из этой церкви другое употребление, оскорбительное для верующих православных людей, придется спокойно смотреть, если они даже просто ее закроют, и заколоченная церковь в центре Болгарской столицы будет глядеть молчаливым укором на проходящих по бульвару Царя-Освободителя» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 13).
Другим опасением еп. Серафима был приезд в Болгарию обновленцев.
«Но может быть и другое: большевики не захотят делать грубых политических бестактностей <...> а захотят прислать духовенство одной из этих духовных юрисдикций, которая не признана Болгарской церковью, ради соблазна и смуты, как среди русского эмигрантства, так и среди болгар, которые посещают русскую церковь теперь. Такие попытки были созданы в Афинах, но были резко пресечены митрополитом Хризостомом» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 13 об.).
Заканчивается письмо ярким, почти публицистическим призывом не допустить торжества богоборческой власти над властью православной:
«Голос православной церкви в вопросах о передаче советской власти русских церквей, той власти, которая в основу своего бытия и всей своей политической деятельности ставит беспощадную и кровавую борьбу с Богом — и Его Святой
Церковью на земле, голос Св. Православной Церкви в этом вопросе должен быть решающим. Никакие соображения мировоззренческого характера, вопросы политики и торговли не могут взять вверх над тем положением, что не может Православная Церковь и не может Православная Власть склониться добровольно в этом вопросе перед властью, начертавшей на своих знаменах: “Гонение на Христа”! Не может этого сделать Православная Власть перед лицом всей Вселенской Православной Церкви, а также перед лицом своего собственного верующего православного народа. Еще свежа в его памяти кровь, пролитая руками советской власти и ее безумных единомышленников в Софии6. <...> Именем Господа нашего Иисуса Христа обращаюсь я с просьбой о защите русских святынь в Болгарии к Св. Синоду Болгарской Церкви и прошу его помощи и выступления перед Болгарским правительством, от которого зависит фактическая защита русских церквей» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 13 об.).
Итог борьбы за эту церковь изложен в письме еп. Серафима митр. Антонию от 18 / 31 июля 1934 г. Из письма видно, сколько активных действий предпринял епископ, чтобы отстоять права русских беженцев. Он обращался к представителям высшей государственной власти Болгарии и даже инициировал создание юридической комиссии по данному вопросу при Болгарском Синоде: «Ваше блаженство, милостивый архипастырь, Блаженнейший Владыко! Долгом считаю сообщить Вам следующее. Месяца полтора тому назад я посетил, начиная с премьера, шесть министров и просил их, в случае признания большевиков, не отдавать им русских святынь. Министр иностранных дел Батолов сказал мне, что относительно Ямбольского монастыря и Шипки я могу быть спокойным, а что касается русской Софийской церкви, то придется спорить с большевиками, так как нет никаких юридических оснований считать ее церковью нелегационною и построенною не на легационной земле. Тем не менее он предложил мне предоставить ему через месяц все соображения в нашу пользу. Я и раньше знал, что юридических оснований отстоять Софийскую церковь у нас нет. Поэтому в заключение сказал министру, что наши святыни, являясь русскими, в то же время являются и болгарскими, и в частности о рус. Соф. Церкви заметил, что она освящена Софийским митрополитом Парфением и на престоле ее лежит антиминс Болгарской Церкви. Через месяц я предоставил министру Батолову свой доклад с заключением юридической комиссии, образованной по моей просьбе при Болгарск. Синоде под председательством еп. Бориса»7.
Епископ Серафим сообщает митр. Антонию, какого развития событий следует ожидать: «На днях министр Батолов вызвал меня к себе. А так как я уехал в Ямболь-ский монастырь, то вместо меня им был принят о. Андрей8. По секрету он просил последнего передать мне, что через один-два месяца большевики будут признаны здесь, и что им (переговоры ведутся в Константинополе) от Болг. Правительства было заявлено, что русские святыни Соф. Церковь, Ямб. Мон., и Шипка не будут им отданы, так как эти святыни, являясь русскими, в то же время являются и болгарскими. Большевики ответили, что они дарят эти святыни Болгарии, пусть только белогвардейцы не служат в русск. Софийской легационной церкви. Болгарское правительство с этим согласилось» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 18 об.).
Чтобы компенсировать русским эмигрантам потерю церкви, болгарское правительство и высшая церковная власть поступили следующим образом: «Батолов тут же предложил мне одну из болгарских церквей в Софии вместо нашей Софийской, — пишет еп. Серафим, — которую Болг. Правительство передаст ему. На другой же день М. Стефан принял у себя о. Андрея и Б. С. Серафимова и заявил им, что рус. община не останется без церкви, что он уже сделал письменное распоряжение (уезжает на 1 1 /2 месяца в Лондон) на имя своего ( неразб .): в тот день, когда русскую церковь он возьмет в свою юрисдикцию — русским передать церковь Св. Николая против Митрополии. М. Стефан решительно заявил, они не будут пользоваться этим случаем, чтобы стеснять свободу русской церкви — ее автономию, которая признана в Болгарии, что всё останется по-старому».
«Церковь, которую отдаст нам м. Стефан, — продолжает еп. Серафим, — по объему почти такая же, как и наша, престол в честь свят. Николая, как в нашей, но наполовину подземная. Так как в нее много ходит болгар, м. Стефан обещается сделать к ней пристрой, если мы ее займем. М. Стефан сказал, что если рус. Церкви Болгарское правительство передает Болгарской церкви, то их возьмут не отдельные архиереи, а Синод, который эти церкви (Ямб. мон. и Шипку) передаст мне. Большевики, по признанию их, водворятся в рус. посольство. Это было их самое категорическое требование» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 19).
При этом еп. Серафим не оставляет надежды на более благополучный исход дела. В письме изложены предположения о том, почему большевики не смогут занять бывшее российское посольство: «Одновременно посылаю министру Батолову письмо, в котором благодарю его за заботы о русских церквах и прошу рус. Соф. Церковь оставить за нами, если большевики почему-либо не водворятся в рус. посольство. (Были слухи, что царь Борис не желает, чтобы большевики поселились в рус. посольстве и таким образом были так близки к Его дворцу). Очевидно, они не хотят нас иметь в таком близком соседстве, поэтому и выгоняют нас из рус. Церкви. Может быть, я кое-что упустил из вида. Поэтому покорно прошу Вас поскорее прислать мне свои указания» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 19).
И, несмотря на то, что у иерарха «на сердце оч. тягостно», он спешит поделиться и хорошей новостью: «Отрадно сознавать, что министры исполнили мою мольбу и не сократили наполовину ежегодного ассигнования на содержание рус. учреждений, как предполагалось раньше, но сократили только на один миллион: вместо 9 ½ миллиона ассигновали 8 ½ миллионов. Прошу Ваших молитв».
В приписке к письму сказано: «Устно и письменно мы указывали мин. Батоло-ву все мотивы, какие только были известны нам, чтобы не передавать рус. церкви большевикам. А юридическая комиссия особенно указывала на волю Болгарского правительства, и что я им признан в качестве Управляющего рус. прав. общинами, но Батолову угодно было воспользоваться только соображениями, что русские святыни являются не только русскими, но и болгарскими. Может быть, будет хорошо, если и Вы напишете благодарность мин. Батолову за его заботы о рус. Церквах™» (ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 19 об.).
Ситуация оставалась неопределенной до осени 1934 г. После напряженных переговоров об условиях установления дипотношений 15 сентября 1934 г. церковь при посольстве СССР была передана во временное пользование болгарскому государству в лице Министерства иностранных дел и исповеданий. После передачи ключей церковь была временно закрыта, что вызвало большую озабоченность и обмен письмами между участниками переговоров.
30 октября (12 ноября) митр. Антоний направил письмо председателю Св. Синода Православной Болгарской Церкви:
«Ваше высокопреосвященство, милостивый архипастырь!
К прочим горестям, переживаемым русским людьми, грозит прибавится еще одна в виде лишения своей святыни, в которой столько лет проливалась молитвенная слеза и находилось утешение. Я имею в виду угрозу для наших русских людей в Софии потерять свою Св. Николаевскую церковь, ключи от которой взяты в Министерство иностранных дел.
Для нас нет сомнения, что такая мера принята в связи с просьбой правительства советской власти, но нам хочется верить, что если эта власть могла закрыть б. посольские церкви в некоторых других странах, то Православная Болгария не допустит этого в своих пределах.
Нам известно, какое сочувствие в этом случае, как и во всех наших нуждах, встречает Преосвященнейший Архиепископ Серафим со стороны Болгарской Православной церкви. Я, пользуюсь случаем, чтобы в лице Вашего Высокопреосвящ. благодарить Св. Синод за эту помощь, а вместе с тем усердно прошу Вас и далее принимать всевозможные меры к тому, чтобы сохранить за нашей русской паствой церковь Св. Николая. Господь сторицей воздаст Вам за Вашу помощь несчастным изгнанникам.
Вашего В. преданный собрат»9.
В этот же день от Архиерейского Синода было направлено письмо г-ну Батолову. В нем звучат отсылки к православному каноническому праву, а также к международным юридическим нормам и ссылки на законы Российской империи. Делается вывод о невозможности считать советское правительство собственником церковного имущества. К письму приложен вывод юридической комиссии Св. Болгарского Синода по вопросу о церковных имуществах.
«Господин министр. Я был глубоко взволнован сообщением, что ключи от русской церкви в Софии были взяты во вверенное Вашему Превосходительству Министерство. Мне хочется надеяться, что мера эта временная. Но, как таковая, она потрясла души всех русских изгнанников, которые боятся, что будут вовсе лишены столь дорогой святыни. Отобрать от нас церковь Св. Николая и передать ее в руки представителя Советского правительства, которое по общему направлению своей деятельности и государственной идеологии не может дать церковному имуществу применения по прямому его назначению, значило бы нанести нашим соотечественникам в Болгарии самый болезненный удар, который, несомненно, тяжело отзовется в сердцах и наших болгарских братьев по вере, ибо изменение назначения церковного имущества противоречит основным началам православного канонического права. Но помимо этой стороны дела, мы и с юридической точки зрения не можем признать за Советским правительством каких-либо прав на Св. Никольский храм и содержащееся в нем церковное имущество. Мы считаем, что храм этот есть имущество Русской Православной церкви, а не Русского Государства. Согласно как основным законом Русской Империи, так и нормам гражданского права, заключающимся в Т. X, ч. II и в IX Свода законов Российской Империи, установления Православной Церкви являлись субъектами гражданского права наравне с Русской Государственной Казной, которая также являлась субъектом права. В частности, церкви являлись бесспорными юридическими лицами, выявлявшими себя через причт в лице настоятеля и церковного старосты до реформы 1917 г., а засим в лице настоятеля приходского совета. Русская государственная власть никогда не считала себя собственником церковного имущества, и всякие споры, возникавшие между русской Казной и церковными установлениями по имущественным отношениям, разрешались судами на общем основании. Нет никаких оснований в настоящее время считать Советское правительство собственником церковного имущества, тем более, что и построен Св. Никольский храм не на земле Русской Миссии, а на особом участке, специально для того отчужденном и отгороженном от усадьбы Миссии. Не считая возможным входить здесь в более подробное обсуждение чисто юридических вопросов и имея в виду, что все необходимые данные могут быть представлены Вашему Превосходительству Управлением русскими православными общинами в Болгарии Преосвященным Архиепископом Серафимом, я, в качестве материала для суждений, позволяю себе приложить заключение юридической части Св. Синода по вопросу о церковных имуществах.
Для русских людей, лишившихся Родины, Церковь осталась единственным утешением, и поэтому потеря храма, в котором возносилось столько молитв, будет самым ощутимым ударом. Но Болгарское Правительство столько показывало к русским братской благожелательности, что я позволяю себе надеяться на сочувственное отношение Вашего Превосходительства к нашей православной русской пастве, нашедшей себе приют в гостеприимной и единоверной Болгарии.
Призываю на Вас Божие Благословение, и прошу Вас, Господин Министр, принять уверения в совершенном моем уважении»10.
18 декабря Министерство иностранных дел и исповеданий передало церковь и всё ее имущество Софийской митрополии Болгарской Православной Церкви. А 31 декабря Св. Синод Болгарской Церкви направил митр. Антонию письмо, в котором высказал свою официальную позицию по данному вопросу и подвел итоги этого противостояния11.
В начале письма выражено огромное уважение к русскому народу и Русской Православной Церкви и дана весьма эмоциональная реакция на происходящие события — сожаление по поводу закрытия церкви свт. Николая Мирликийского Чудотворца, вызванного приездом «советского представителя». В результате настойчивых действий Болгарского Св. Синода храм был вновь открыт для богослужений: он перешел в распоряжение митрополита Софийского Стефана, который взамен предоставил русским беженцам древний болгарский храм свт. Николая Мирликийского Чудотворца напротив Митрополичьего дома. Таким образом совместными усилиями этот вопрос был решен. Причем найденный выход стал единственным в своем роде: он учитывал особенности местной религиозной и политической жизни и был реализован только в Болгарии, тогда как в других странах судьба церковного имущества при посольствах решалась иным способом.
«Ваше Высокопреосвященство, Богомудрый и Боголюбивый Владыко!
Безмерные скорби и страдания Русской Православной Церкви и великого русского народа наполняют глубокой скорбью болгарский народ в Болгарской Православной Церкви. Нигде больше эти сверхчеловеческие страдания не вызывают такого живого сочувствия и волнения, как в нашей маленькой стране. Благодарный болгарский народ и преданная Болгарская Православная Церковь не только глубоко переживают невыразимую скорбь братского русского народа, но в то же время при каждом удобном случае делают всё, что в их силах, чтобы уменьшить страдания и положить конец испытаниям.
Наши братья, русские беженцы в Болгарии, пережили новое горе в связи с временным закрытием Русской Православной Церкви Святого Николая Мирликийского
Чудотворца в Софии, что было спровоцировано приездом нового советского представителя. Это печальное обстоятельство сильно огорчило Болгарскую Православную Церковь и весь болгарский православный народ. Св. Синод Болгарской Православной Церкви неоднократно предпринимал перед болгарским правительством решительные шаги к тому, чтобы немедленно открыть русскую церковь в Софии и полностью предоставить ее русскому духовенству и русским беженцам в Болгарии. Благодаря этим твердым действиям Св. Синод Русской Православной Церкви в болгарской столице — после соглашения между болгарским и советским правительствами — вновь открыт для богослужений и предоставлен в распоряжение Вы-сокопреосвященнейшего Святителя Митрополита Софийского Стефана, который, в свою очередь, предоставил всем русским беженцам для их религиозных нужд древний болгарский храм Св. Николая Мирликийского Чудотворца, расположенный напротив Митрополичьего дома в столице. Такое решение этого болезненного вопроса немного успокоило русских беженцев в нашей стране и наш народ, потому что, с одной стороны, русская церковь в Софии уже не закрыта, а с другой стороны, у наших русских братьев есть церковь для удовлетворения своих религиозных потребностей. Однако в будущем Св. Синод Болгарской Православной Церкви приложит усилия, чтобы при первом же удобном случае русская церковь в Софии оказалась полностью во владении русского духовенства и русских беженцев в Болгарии. Исполненные братского послушания и братского сочувствия, позволяем себе заверить Ваше Высокопреосвященство, что Болгарская Православная Церковь и болгарский народ будут и в новом году возносить горячие молитвы воплотившемуся Господу Иисусу Христу о спасении гонимой Русской Православной Церкви и народа великой многострадальной русской страны. Мы искренне просим Господа Бога поддержать Ваше Высокопреосвященство. И всех преданных и самоотверженных служителей Русской Православной Церкви в их достойном мученическом служении.
Преданный Вашему Высокопреосвященству смиренный во Христе брат, Наместник-председатель Св. Синода Видинский.12
В течение 12 лет церковь свт. Николая в Софии принадлежала Болгарской Православной Церкви. В июне 1946 г., после установления в Болгарии прокоммунистического правительства «Отечественного фронта», Советский Союз разрешил некоторым русским эмигрантам принять гражданство СССР, что позволило передать им храм во временное пользование для богослужений. 28 декабря 1946 г., после реставрации и ремонта, храм был передан в ведение архиеп. Серафима (Соболева), управляющего приходами Русской Православной Церкви в Болгарии (ранее в епископате РПЦЗ). Архиепископ был погребен в 1950 г. в крипте храма, о судьбе которого он так заботил -ся при жизни.
История церкви свт. Николая в Софии служит ярким примером того, как Зарубежная Православная Церковь преодолевала трудности, возникающие в ее положении «Церкви меньшинства», «Церкви беженцев». В условиях угрозы национализации имущества ей удавалось по-новому выстраивать отношения с властями, зачастую в сложной политической ситуации, и отстаивать права своей паствы.
Стоит отметить, что в разных странах судьба посольских церквей была различной, но в большинстве случаев православным эмигрантам удавалось отстоять свои права. Так, во Франции правительство секвестрировало церковное имущество, оставив его в пользовании эмигрантской общины. В Аргентине вопрос был решен декретом президента республики: представителем русской церкви и распорядителем ее церковного имущества признан настоятель русской православной общины в Аргентине протопресв. К. Изразцов. Греция, несмотря на энергичные домогательства советского представителя, не отдала русскую посольскую церковь большевикам. В Румынии церковь тоже не была передана советскому представительству. В Югославии такой вопрос оказался не актуален, так как русская церковь в Белграде была построена на эмигрантские деньги уже в годы изгнания. Найденное в Болгарии решение, «обмен» храмами, стало единственным в своем роде и учитывало особенности местной религиозной и политической жизни.
В это непростое время иерархи РПЦЗ использовали все доступные им возможности, чтобы оказать своим соотечественникам религиозную, психологическую, материальную помощь и отстоять их право на православные храмы. Они вели интенсивную переписку и переговоры с представителями властей, а также задействовали личные связи, сложившиеся еще до революции, со священнослужителями, которые в 1930-е гг. возглавляли Православные Церкви разных стран. В большинстве случаев это приводило к успешному решению проблемы, благодаря чему русские православные эмигранты могли получить духовную поддержку, а религиозные традиции и богословская мысль, подвергшиеся страшным гонениям на родине, сохранялись на чужбине.
Список литературы О притязаниях советской власти на церкви при российских посольствах (на примере церкви свт. Николая Чудотворца в Софии, 1934 г.)
- ГАРФ. Ф. Р-6343. Оп. 1. Д. 221. Л. 1-30. Выписка из журнала Архиерейского Синода, переписка Синода с министром Иностранных дел царства Болгарского, с архиепископом Серафимом, митрополитом Неофитом, председателем Синода православной Болгарской церкви о положении церковных дел в Болгарии.
- Троицкий (1926) - Троицкий С. Имущественные права Русской Церкви // Церковные ведомости. Сремски Карловци, 1926. № 5-6, 7-8, 9-10. URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/ library/material/7401/(дата обращения: 03.02.2023).