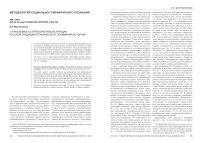О проблемах и стратегиях реконструкции русской традиции органического понимания истории
Автор: Мотовникова Елена Николаевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Методология социально-гуманитарного познания
Статья в выпуске: 1 (43), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются научная актуальность и философско-методологические возможности исторической реконструкции органического понимания истории как целостной традиции в русской мысли XIX-XX вв. Автор рассматривает проблемы, с которыми может столкнуться исследователь, реконструируя специфику метода и стиля мышления органицистов, а также размышляет о наиболее адекватной и методологически эффективной позиции исследователя в данном контексте.
Историческая реконструкция, философия истории, органицизм, интеллектуальная традиция, стиль мышления, a.a. григорьев, h.h. страхов, г.с. померанц
Короткий адрес: https://sciup.org/170175746
IDR: 170175746 | УДК: 1(091)
Текст научной статьи О проблемах и стратегиях реконструкции русской традиции органического понимания истории
Русская традиция органического понимания истории - одна из составляющих российской интеллектуальной истории, исследованных мало и фрагментарно, предметно-целостно же, как таковая, не изучавшаяся до сих пор. Можно предположить, что в первую очередь эта неизученно сть обусловлена тем, что такая традиция никогда не существовала в каких-либо организованных формах и представляет собой некую «естественную», стихийную преемственность нефиксированной совокупности предпосылок, установок, принципов исторического, и шире -гуманитарного мышления, передававшихся и передающихся поныне в несистематизированных, неформализованных коммуникациях, прежде всего - через свободное самоопределение в круге чтения в процессе самообразования. Поэтому сама органическая традиция как историческое целое является именно реконструированной, пока только предварительно, в рамках современных усилий по осмыслению и возрождению коллективного интереса к недооценен- ным именам и идеям в области истории российской гуманитарной мысли (см., наир.: [4; 5; 6]).
Наиболее общими чертами этого реконструируемого целого являются такие идеи и установки мышления, которые сегодня наиболее известны в философском сообществе под именами холизма (или холистичности), телеологиз-ма и историчности, познавательного кеносиса и теоретического скепсиса, имеющими разнородное происхождение и разрозненные контексты употребления. В этой ситуации встает вопрос о создании опознаваемого языка описания реконструируемой традиции, более-менее определенной системы концептов, однако сами предпосылки органического понимания истории, которые нельзя упускать из вида в процессе его историко-философской и культурно-исторической реконструкции, обусловливают неизбежность встречи исследователя с рядом проблем. Наиболее актуальные из первостепенных, как представляется, - это взаимосвязанные проблемы герменевтической реконструкции общего метода и индивидуальных стилей представителей русской органической традиции, а в связи с этим - проблема адекватной (эффективной) исследовательской позиции самих философов-историков, участников проекта реконструкции.
На первое место здесь можно поставить проблему и задачу реконструкции авторского стиля каждого писателя-мыслителя органической традиции, поскольку родовая черта всех орга-ницистов - яркая, откровенная, часто даже подчеркнутая стилистическая индивидуальность. Каждый из них чрезвычайно высоко ценил и культивировал неповторимость своего стиля, письма, мышления, выражения, языка - оригинальность, не подлежащую типизации и обобщению. «Обладать стилем, - писал ближайший к нам выдающийся представитель традиции органического исторического мышления Григорий Померанц, - это значит быть самим собой» [8, с. 9]. «Найти свой стиль - значит найти свое внутреннее зернышко, свое чувство Истины» [8, с. 9]. Это чувство истины действительно ярко характеризует индивидуальность письма Ап. Григорьева и Н.Н. Страхова, Ю.Н. Говорухи-Отрока и В.В. Розанова, М.М. Бахтина и самого Г.С. Померанца. Оно улавливается непосредственно при чтении каждого их текста и заставляет вчитываться и вдумываться в авторские размышления, даже когда они кажутся на первый взгляд слишком субъективными. Но как возможна рациональная реконструкция, если это - чувство, интуиция, вдохновение, взвол нованность? Обладать собственным стилем означает, согласно истолкованию Г.С. Померанца, «совершенно верить себе, своему интуитивному знанию, куда повернуть, а не только знать какие-то образцы» [8, с. 9]. Переводима ли такая стилевая установка на теоретико-методологический язык? Бесспорно, например, романтическое начало стиля мышления Ап. Григорьева (который и сам называл себя «последним романтиком»), но когда требуется определить идейные основы его литературной критики, Б.Ф. Егоров вынужден сетовать на избыточную многозначность существующих литературоведческих терминов и делать постоянные оговорки насчет особенного «романтизма» раннего Григорьева, соединенного с особенной же «патриархальностью» [3, с. И], а затем - и об особых значениях его «реализма» и «идеализма» [3, с. 25], сама особость которых имеет значение и выявляется как значимая лишь в исторически реконструируемом общественном и литературном контексте григорьевских выступлений, в связи с историей его индивидуального развития и существенных идейных трансформаций.
Как подчеркивает Г.С. Померанц, «стиль - это установка на разговор с известного круга людьми» [8, с. 8]. Если можно считать корректным трактовать это высказывание как относящееся и к понятию «стиль научного мышления»1, то есть в том смысле, что стиль - это общий язык определенного исследовательского сообщества и общий круг обсуждаемых вопросов и проблем, то это выражение может быть понято близко к тому, что в методологии и философии науки принято называть теоретико-методологическим единством. При том, что каждый индивидуально ищет свой стиль, в стиле, как его понимает Г.С. Померанц, есть и то, что подлежит усвоению, подражанию, воспроизведению, трансляции в пространстве и во времени. Более того, на взгляд этого мыслителя, именно эта «повторимая» сторона стилевого поведения имеет наибольшее социально-историческое значение: «Стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию» [7]. В чем же состоят специфические черты «органической цивилизации» в мире русской мысли?
Характеризуя свой стиль, Г.С. Померанц выделял в нем те же особенности, которыми отмечены работы и других русских органици-стов XIX - начала XX вв.: «Я действительно удерживаю в уме несколько параллельных (и не только параллельных) рассуждений и скорее даю направление к синтезу, чем простое однозначное решение. Я передаю читателю больше открытых вопросов, чем ответов» [7] (выделено Г.С. Померанцем - прим. авт.\ Неприятие упрощенных теоретических схематизаций жизненных процессов и сил, претендующих объяснить всё и навсегда; интеллектуальная и эмоциональная открытость, неоднозначность суждений, внимание к иррациональному - само это сходство установок мышления, которое нельзя объяснить прямой преемственностью, ученичеством2, указывает на глубинное типологическое родство органицистов, на общую им определенную прирожденную склонность к умственной самодеятельности, самобытности. В проявлении и развитии этой врожденной черты, надо полагать, судя по ярким биографиям, важнейшую роль сыграло и сильное волевое начало, способность к сопротивлению авторитетам, к порой рискованному экзистенциальному выбору и к ответственности, влекомой этим «не-алиби»: «Я отвергаю прямолинейные решения сложных вопросов» [7], «...Только за ту головную мысль борются, которой корни в сердце, в его сочувствиях и отвращениях, в его горячих верованиях или таинственных, смут- пых, но неотразимых и, как некая сила, могущественных предчувствиях!» [2, с. 37]. Можно ли превратить этот стиль в теорию и метод, что, собственно, и предполагает рациональная строгая реконструкция?
Попытки описать органицизм как теорию и метод предпринимаются время от времени. Но при знакомстве с результатами такого упорядочивания возникает впечатление некой противоречивости их и с предметом описания, и с самими органицистами. Как уже было цитировано выше, для познавательного самоконтроля органического мышления метод не принципиально важен, важнее «интуитивное знание, куда повернуть». С объективной точки зрения, при этом важно еще раз отметить, что в органической традиции мы знаем только гениальных уникумов, и не находим как таковых методических «школ». Невозможно обнаружить эпигонов среди их почитателей, известных какими-нибудь подражательными работами. Н.И. Надеждин, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, В.В. Розанов, Ф.Э. Шперк, М.М. Бахтин, Г.С. Померанц - все они узнаваемо индивидуальны и неподражаемы, и объединены, в том числе, нелюбовью к подражательству3, к «сделанности» мысли и текста по чужому - а значит, чуждому, не органичному - образцу. Самое методологически описанное и отрефлектированное в обсуждениях явление в рамках органицизма - это литературная органическая критика, названная так Ап. Григорьевым и связывавшаяся им самим с европейской органической шеллингианской традицией4. В структуре этой органической критики необходимым образом присутствует и историческая критика, или историческая герменевтика, как ее сейчас было бы корректней назвать, в силу первенствующего значения в ней над задачей понимания истории и духа времени, сущности национально-исторической эпохи - задачи уяснения авторского отношения к исторической действительности и оценки его с позиции идеалов (идеалов авторских и идеалов «вечных», истинных, постигаемых тем самым «чувством Истины») (см.: [3, с. 18]). Однако важно подчеркнуть, что, владея приемами органической критики, более того, описав эти при- емы органической критики как альтернативные по отношению к неправильным методам эстетической и исторической критик (Григорьев прямо употребляет слово «метод» [2, с. 46] в этом значении), сам Аполлон Григорьев писал исключительно по вдохновению и бросал недо-писанные статьи, если уходило волнение, и никакого метода взамен ушедшего настроения не применяя и не в силах применить (кроме компиляции текста из больших фрагментов своих прежних работ, практически не измененных). И В.В. Розанов не раз признавался, что не мог переработать ни одну свою статью в заданном методическом или теоретическом ключе.
Самый методически дисциплинированный, самый рациональный критик и писатель из круга русских органицистов, Н.Н. Страхов не только уличен в отступлении от григорьевских методических принципов5, но неоднократно высказывался весьма критично, а порой и насмешливо, против методологизма (позитивистского толка, в первую очередь), захлестывавшего литературные и исторические исследования конца XIX в. Так, в работе 1893 г. «Заметки о Тэне» он прямо дает оценку попыткам Тэна, абсолютно неудачным, с точки зрения Страхова, убедительно описать и объяснить ход событий французской революции: «...В душе человека и в истории действуют некоторые высшие силы, которых не знает или не умеет ввести в свой расчет Тэи. Разумеется, весь смысл истории изменяется для того, кто будет сознательно следить в ней за проявлением и развитием этих сил. В сущности, история человечества представляет нам ряд явлений таинственных, непонятных, то есть имеющих для нашего ума неисчерпаемую глубину, неистощимую поучительность. ... Мы прикидываем к предмету то одни, то другие мерки, мы освещаем его то с одной, то с другой стороны, и каждый раз лучше и лучше его разумеем, но вполне исчерпать его мы не можем, так как часть всегда меньше целого, и никакой ум не может подняться на высоту, на которой человечество лежало бы ниже его. Одно из самых таинственных и глубоких явлений есть революция» [10]. С этими мыслями удивительно тесно переплетаются размышления Г.С. Померанца о мистике революции, записанные почти веком позже в связи с осмыслением другой великой трагедии, о возможности которой писал в свое время Н.Н. Страхов, - о революции в России, смысл и историческое значение которой уже многократно пересмотрены и будут долго оставаться открытыми вопросами для открытого, не догматического исторического мышления. «Я думаю, что в решающий момент эпохи чувствуется та сверхчеловеческая рука, смысл действий которой мы даже не понимаем. Лишь недостаток глубинного мышления заставляет нас искать объяснения в полуреальной-полу-фантастической группе, которая будто бы что-то замышляет и делает» [9, с. 231].
В этой диалогической перекличке сначала привлекает внимание сходство в авторских подходах - прежде всего замечаются одинаковые используемые ключевые словопонятия «глубинное» - о мире и об уме, постигающем мир; «высшее» и «непонятное» - о том самом сверхъестественном, что проявляет себя в самых глубинных явлениях бытия и мышления. Но и различия в репликах примечательны и существенны: Н.Н. Страхов говорит о непонятности события революции в его полноте и целостности, но признает полезными, всё «лучшими», все подходы к ее освещению, все прилагаемые мерки; Г.С. Померанц же считает некоторые объяснения совершенно ложными (и мы знаем, как появились эти искусственные схемы «теории революции», с которыми еще не приходилось в обязательном порядке иметь дело И. Гэну и Н.Н. Страхову)6. Роль высших сил в истории обоими философами, признававшимися в мистическом умонастроении, отдается, конечно, божественному началу, но и к нему отношение не тождественное: если Г.С. Померанц говорит как бы за всех людей, что смысл действия «сверхчеловеческой руки» мы не понимаем, то Н.Н. Страхов, очевидно, разделяет пытающихся промыслить исторические пути на тех, кто «не знает или не умеет» учесть в своих «расчетах» высшие силы, и тех, кто, по-ви-димому, знает и умеет или хотя бы знает, хотя и не умеет разбираться в этих по-настоящему глубинных и таинственных духовных силах. И на эту мысль о ясновидцах мы тоже найдем диалогический (в бахтинском смысле диалога) ответ в текстах А.А. Григорьева, В.В. Розанова, Ю.Н. Говорухи-Отрока и других мыслителей русской органической традиции, что прекрасно иллюстрирует григорьевский тезис о том, что «идея есть явление органическое, что она носится в воздухе, которым мы дышим...» [2, с. 42]. Однако такая взаимная перекличка и тематическая отзывчивость создает возможность соблазна, собрав коллекцию тематически каталогизированных цитат, сконструировать из них «школу» русской органической философии или хотя бы «направление».
В связи со всем сказанным встает вопрос об уточнении самоопределяемой (в условиях отсутствия теории и метода) позиции сегодняшнего реконструктора, того, кто не может не учитывать в своей исследовательской работе неподражаемые авторские индивидуальности и в то же время известную общность установок мышления органицистов. Решая задачу реконструировать общие черты традиции, мы должны помнить и понимать противоречие тотального обобщения индивидуализирующему предметному отношению как важнейшей составляющей самой традиции. Правота органических иссле- довательских интуиций должна быть показана в рамках максимально проясненных принципов каждого взятого в отдельности мыслителя, а затем и в более широкой перспективе накопленного нового опыта познания, дающей возможность убедиться как в справедливости гениальных прозрений, в их подхваченности и развитии, так и в неизбежной, исторически обусловленной конкретной неполноте их, ограниченности, а в чем-то и ошибочности. Г.С. Померанц сформулировал задачу так: «Отбросим все термины и будем говорить просто о вечном (глубинном) и временном (поверхностном) я» [8, с. 25]. Этот призыв выявлять сочетание и проявление вечного во временном, неизменного идеала человеческой души в его живом конкретном историческом воплощении, словами А.А. Григорьева, - чрезвычайно характерная стихийная перекличка органических писателей, ничем и никем нарочно не организованная тема, общая им всем, выразимая наилучшим образом не терминами - философскими ли, или психологическими, - а понятным всем и каждому простым человеческим языком.
Традиция органического понимания в истории русской мысли, представители которой всегда выступали против засмысленности господствующих идеологизированных теорий и догм, остается актуальной для современной российской философии во всех своих главных темах. Это и вопрос о природе и судьбе русской/российской нации, о развитии ее самосознания в научных, художественных и религиозных формах; и поиск гармоничного созидательного взаимоотношения между личной свободой и национальным историческим путем; поиски рационального объяснения интуитивно понятым истинам истории, истолкование их не только научно-теоретически, то есть односторонне, но и в философско-религиозном, мировоззренческом, смысложизненном ключе, выражающем содержание данной исторической ситуации максимально полно, «художественно» ощутимо, как жизненно важное.
Список литературы О проблемах и стратегиях реконструкции русской традиции органического понимания истории
- Горбанев H.A. Аполлон Григорьев и H.H. Страхов//Филологические науки. 1988. № 1. С. 19-25.
- Григорьев A.A. Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства//Григорьев A.A. Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986. С. 31-69.
- Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев -литературный критик//Григорьев A.A. Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986. С. 5-30.
- Кузьмина Г.П., Гаврилова Н.Г. Органицизм как теоретико-методологическая основа миропонимания российских мыслителей//Фундаментальные исследования. 2014. № 6-4 . -Режим доступа: https://fimdamental-research.ru/ru/article/view?id=34258
- Ольхов П.А. Здравый смысл и история. Заметки к полемической эпитафии H.H. Страхова «Вздох на гробе Карамзина»//Вопросы философии. 2009.№ 5. С. 125-132.
- Ольхов П.А., Мотовникова Е.Н. История как жизненное целое: A.A. Григорьев и H.H. Страхов в поисках органического понимания истории//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. № 3. С. 88-95.
- Померанц Г.С. Догматы полемики . -Режим доступа: http://www. pomeranz.ru/p/pub_dogmats.htm
- Померанц Г.С. Записки гадкого утенка. М.: РОССПЭН, 2003.
- Померанц Г.С. Лекции по философии истории//Миркина З.А. Огонь и пепел. Померанц Г.С. Лекции по философии истории. М.: «Док», 1993. С. 197-266.
- Страхов H.H. Заметки о Тэне . -Режим доступа: http://az.lib.m/s/strahow_n_n/text_ 18 93_ten_oldorfo.shtml
- Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX-XX вв.: От личности к традиции/Под ред. Б.И. Пружинина, Т.Г. Щедриной. М.: РОССПЭН, 2013.