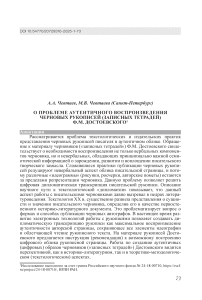О проблеме аутентичного воспроизведения черновых рукописей (записных тетрадей) Ф. М. Достоевского
Автор: Чевтаев А.А., Чевтаева М.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема текстологических и издательских практик представления черновых рукописей писателя в аутентичном облике. Обращение к материалу черновиков («записных тетрадей») Ф.М. Достоевского свидетельствует о необходимости воспроизведения не только вербальных компонентов черновика, но и невербальных, обладающих принципиально важной семиотической информацией о зарождении, развитии и воплощении писательского творческого замысла. Сложившиеся практики публикации черновых рукописей редуцируют невербальный аспект облика писательской страницы, и потому различные «идеограммы» (рисунки, росчерки, авторские пометы) остаются за пределами репрезентации черновика. Данную проблему позволяет решить цифровая дипломатическая транскрипция писательской рукописи. Описание научного пути к текстологической «дипломатии» показывает, что данный аспект работы с писательскими черновиками давно вызревал в недрах литературоведения. Текстология XX в. существенно развила представления о сущности и значении писательского черновика, определив его в качестве первостепенного историко литературного документа. Это проблематизирует вопрос о формах и способах публикации черновых автографов. В настоящее время развитие электронных технологий работы с рукописями позволяет создавать дипломатическую транскрипцию рукописи как максимальное воспроизведение аутентичности авторской страницы, сохраняющее все элементы идеографии и облегчающей чтение рукописного текста. На материале рукописей Достоевского предлагается инструкция (рекомендация) к возможному построению цифрового облика рукописной страницы. Работа по созданию аутентичных (цифровых) образов черновиков («записных тетрадей») Достоевского видится перспективной, как в историко литературном, так и в теоретико методологическом (текстологическом) аспектах.
Ф.м. достоевский, автограф, архив писателя, дипломатическая транскрипция, рукопись, творческий процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/149147797
IDR: 149147797 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-73
Текст научной статьи О проблеме аутентичного воспроизведения черновых рукописей (записных тетрадей) Ф. М. Достоевского
F.M. Dostoevsky; autograph; writer’s archive; diplomatic transcription; manuscript; creative process.
В рукописном наследии Ф.М. Достоевского особое место занимают его записные тетради, являющиеся уникальным источником информации о зарождении и реализации его замыслов на раннем этапе работы [Комарович 1934; Розенблюм 1981]. Они содержат «планы» и подготовительные материалы к завершенным и неоконченным произведениям, предварительные наброски публицистических текстов, а также записи дневникового характера. В этих записях максимально полно проявляются особенности творческой работы писателя, характерные свойства его авторской авторефлексии, путях реализации замысла; тетради писателя представляют собой «важнейший источник для изучения его жизни, мировоззрения, творческого процесса, истории создания многих произведений, его работы как редактора и публициста» [Розенблюм 1981, 3].
Становится все более ясно, что эти тексты представляют собой не отработанный материал творческого процесса, но значительную культурную ценность – комплексное отражение движения творческой мысли, зафиксированного с помощью широкого ряда вербальных и идеографических языков, знаков пространственно-семантического характера [Баршт 2000]. Не только семантика отдельных слов и фраз и рисунков, но само расположение текстовых блоков на странице рукописи Достоевского – важный источник информации о движении его творческой мысли, до настоящего времени не освоенный требующий изучения.
Сложность публикации записей писателя, содержащихся в тетрадях, определяется тем, что он систематически нарушает хронологическую последовательность заполнения страниц, располагая одну тематическую линию в разных местах тетради [Розенблюм 1981, 7–8], иногда в процессе работы над произведением писатель одновременно использовал несколько тетрадей. В ряде случаев записи имеют «мозаично-калейдоскопический» характер. Стремление «зафиксировать новую мысль, образ или ситуацию» [Розенблюм 1981, 7] продуцирует заполнение страниц в произвольном порядке, лишенном логики для стороннего реципиента рукописи. Страницы тетради могут содержать дополнения на полях сверху, снизу, сбоку, между уже имеющихся строк, поверх и поперек написанного ранее. Нередко тетрадь переворачивается, и записи предстают в перпендикулярном или перевернутом виде. Часто в течении записей одной сюжетной линии обнаруживаются логические разрывы, зафиксированная мысль получает продолжение на странице, расположенной на удалении от начальной.
Имеющийся опыт расшифровки записных тетрадей Достоевского и их публикации свидетельствует о том, что логика работы писателя над тем или иным конкретным произведением является продуктом реконструкции исследователя, так как у нас не всегда есть сведения о времени, когда была сделана та или иная запись, о порядке их появления. Другими словами, сегодня мы восстанавливаем историю написания романа Достоевского, ориентируясь не на реальную хронологическую последовательность записей, нам во многих случаях неизвестную, но на логику сюжета, представленного окончательным текстом произведения в его прижизненной публикации. Искажения подлинной истории написания Достоевским своих произведений в этом случае неизбежны. Возможно, подлинная история написания его романов будет нам доступна в будущем, когда и если будет реализован проект спектрофотометрической датировки рукописей Достоевского, предложенной группой ученых ИРЛИ и ИТМО [Баршт, Березкина, Волков, Гуров 2016].
Сосредоточенность текстолога на вербальном компоненте черновика Достоевского приводит к практически полной редукции имеющихся в нем невербальных элементов, а также к «выпрямлению» авторских записей относительно замысла и его поэтапной реализации в черновиках. Принцип академического издания рукописей писателя, изобретенный в конце XIX в., требующий помещения правки и дополнений текста в сноски с пояснениями типа «вписано», «вместо», «было», «на полях слева» и пр., представлен в старом и новом академических Полных собраниях сочинений Достоевского [Достоевский 1972–1990; Достоевский 2013–]. Страница такого рода публикации состоит из двух примерно равных частей – самого текста, логически выпрямленного по воле текстолога, временами в ущерб подлинной аутентичности черновика, и огромного по объему массива сносок, указывающих на различного рода изменения и правки, сделанные рукой писателя. Попытки с помощью этих указаний «слева», «справа», «книзу», наверх» и пр. воспроизвести пространственное расположение записей на странице не могут не вызвать уважения – на самом деле, расположение записи на странице черновика имеет отчетливое значение, являясь одним из уровней семантики текста в целом. Отражение подлинной оригинальной структуры страницы, заполненной записями писателя, выходит в таком случае лишь очень и очень приблизительным, фактически лишь в минимальной степени передавая подлинную картину расположения записей и связей между ними. Такая не слишком удачная имитация пространственного расположения записей и общей структуры и композиции страницы как органического смыслового единства сильно устарела, давно уже требуя себе замены. Да и чтение текста черновика, опубликованного по методу XIX в., представляет собой значительную трудность, требуя без конца скользить глазами от текста к сноскам, снова к тексту, замедляя процесс чтения и формируя лишь приблизительную имитацию восприятия оригинала, сноски с указанием лишь приблизительного места нахождения исправления мало информативны и чрезвычайно громоздки.
Другой уровень потерь информации при публикации рукописей Достоевского традиционным архаическим способом связан с попыткой текстолога «доработать» текст черновика писателя, вступив с ним в творческое соревнование и расположив фрагменты текста по логическим связям, извлеченным из текста произведения, к которому относились записи. Возникающее в итоге дробление единства семантического тела рукописных страниц и целых тетрадей, казалось бы, упрощает чтение, обращая принципиально незавершенный текст черновика в текст завершенный. Эти попытки заведомо текстологически ущербны, так как писатель нередко работал с несколькими проектами одновременно, причем ряд персонажей в этих замыслах совпадали или были очень сходны, и расчленение живого массива записей «по произведениям» оказывается либо затруднительно, либо попросту невозможно, так как одна и та же запись может иметь и имела отношение одновременно к двум и более произведениям.
Рукописные материалы к роману «Преступление и наказание», опубликованные в 7-м томе второго Полного собрания сочинений, выстраиваются в соответствии с представлением исследователя о развертывании творческого процесса писателя. Из различных тетрадей, а также из иных источников выбираются фрагменты текста, которые квалифицированы как имеющие отношение к работе над произведением [Достоевский 2019, 424–426]. Такого рода публикация черновых рукописей преследует цель развернуто реконструировать творческий процесс создания «Преступления и наказания» на заведомо неполном исходном материале, когда в расчет берутся только вербальные записи писателя, с кратким указанием в сносках о существовании еще как минимум трех информационных уровней текста – портретных рисунков, изображений архитектурных деталей и каллиграфической прописи [Баршт 1996].
Очевидно, что при таком текстологическом подходе происходит разрушение концептуальной сущности структуры страниц рукописи Достоевского как документа творческой жизни писателя. Однако именно она и должна быть реализована при публикации в максимально точном и аутентичном виде, который, как мы видим, не в силах обеспечить архаический метод публикации, принятый сегодня в академических изданиях. В существующих ныне издани- ях писательских рукописей принято как должное принципиальное разрушение пространственно-семантической целостности рукописной страницы и, соответственно, смыслового единства каждой страницы тетради и тетради как единого документа. Для текстолога полнота рукописи включает в себя не только текстовые элементы и указанные выше три вида рисунков, но и многочисленные росчерки, прочерки, рамки фрагментов, цифровые обозначения, линии отчеркивания и связывания отдельных текстовых блоков, наконец, само взаимное расположение фрагментов текста на страницах также имеет свою семантику. Все эти элементы страницы семиотически насыщены, имеют определенный смысл. Идеография писателя не есть простое добавление к тексту; она составляет с ним единое целое и связана с вербальным рядом, фиксируя важные этапы движения творческого процесса.
Важные шаги в этом исследовательском направлении были сделаны в пушкинистике, в частности, в исследованиях А.М. Эфроса [Эфрос 1933], который заметил, что именно работа над романом дала Пушкину важную перспективу для рождения творческой идеографии. Эти и другие исследования идеография в рукописях писателя свидетельствует о сложнейших процессах автокоммуникации, принципах рождения нарратива во внутреннем диалоге с имплицитным читателем, об усложнении рефлексии писателя при обдумывании идей, образов и сюжетных ситуаций, что реализуется посредством невербального представления смысловых «квантов» литературно-художественной работы. Органический синтез словесного ряда и идеографических элементов превращает «записные тетради» Достоевского в особый артефакт творческого наследия писателя, требующий комплексного восприятия и метода исследования и репрезентации, непосредственно вытекающего из специфики исследуемого материала.
Вопрос о способах сохранения целостного облика и смыслового содержания рукописной страницы при публикации черновых материалов относится к наиболее сложным и спорным проблемам текстологии.
Казалось бы, возможным вариантом представления рукописи является факсимильное воспроизведение страницы, позволяющее представить и все содержащиеся в источнике записи, и послойную динамику творческой работы писателя (подчеркивания, зачеркивания, вставки, выделения, обрамления текстовых элементов). Факсимильные публикации рукописей воспроизводят аутентичный облик страницы, сохраняя расположение записей в пространственной плоскости источника и весь комплекс графической информации (авторские пометы, сокращения, зачеркивания, рисунки и т.п.), позволяющей увидеть невербальные проявления творческой работы писателя. Однако, как отмечено Б.В. Томашевским, «факсимильные издания <…> дают документ в сыром виде, не прочитанным» [Томашевский 1959, 76]. Необходимость освоения писательского почерка и правильного распознавания языковых единиц существенно затрудняет восприятие факсимиле рукописи и нередко делает непроницаемой для реципиента представленную в ней вербальную информацию.
Еще в конце XIX в. этот вопрос был поставлен во главу угла. Решение виделось в транскрипции – унифицированной записи прочитанных и верифицированных текстологами вербальных единиц, что снимает сложность восприятия и понимания авторского почерка и имеющихся в рукописном источнике помех для верного постижения смысла языковых элементов. Значимость для текстологии и эдиционной практики дипломатической транскрипции на рубеже XIX–XX вв. подчеркивается Н.П. Лихачевым, считавшим, что такая публи- кация позволяет учесть все компоненты текста и способствует более глубокому уяснению сущности публикуемого документа [Лихачев 1901, 18]. С.А. Рей-сер, подчеркивая, что «черновики отражают различные планы, разнообразные сюжетные дороги, которыми писатель шел, нащупывая “правильный” (с точки зрения внутренней логики развития образа) путь» [Рейсер 1978, 32], в то же время скептически воспринимает идею публикации дипломатической транскрипции черновиков. Ученый считает, что, так как «подача вариантов, т.е. расслоение творческого процесса, сравнительно редко бывает бесспорной», то «специалист вряд ли доверится проделанной другим работе, а обратится к рукописям (или их воспроизведениям) лично» [Рейсер 1978, 39], справедливо полагая, что транскрипция в бумажной версии (по Гроту) не дает точного понимания пространственно-семантических связей в текстовой композиции.
На техническое несовершенство текстологической транскрипции, созданной с помощью типографских шрифтов, С.А. Рейсер также сетует: «На самом деле никакие типографские ухищрения не могут передать всю сложность рукописи – проще давать фототипическое воспроизведение» [Рейсер 1978, 40]. Однако транскрипция не отрицается им как средство предварительной работы текстолога: «На листе бумаги можно более или менее точно передать расположение отдельных строк и слов, карандашами разных цветов обозначить их последовательность и пр.» [Рейсер 1978, 40]. Большой интерес, который вызывала эта проблема у многих филологов, М.О. Чудакова объясняет резким возрастанием интереса не только к результату, но к процессу творческого труда писателя: «Период господства метода транскрипций <...> обозначил возникновение общественного интереса не к творческим результатам, хотя бы и фрагментарным (целым строфам и проч.), а к рукописи как стенограмме творческого процесса» [Чудакова 1986, 76].
Близкой точки зрения придерживается Б.М. Эйхенбаум, предлагающий дифференцированный подход к публикации черновых материалов, согласно которому «в научных изданиях надо публиковать все черновые редакции произведения», а черновые варианты – представлять «в отобранном виде и сопровождать этот процесс редакторской сводкой, характеризующей черновую работу писателя в данном случае» [Эйхенбаум 1962, 77]. По мысли исследователя, факсимильное «воспроизведение рукописи дает специалисту гораздо больше, чем препарированный редактором печатный текст, в котором могут быть всякого рода ошибки и опечатки» [Эйхенбаум 1962, 77].
Преодоление проблемы совмещения вербальной дешифровки черновой рукописи и, одновременно, адекватного, аутентичного воспроизведения черновой рукописи писателя видится в создании полной дипломатической транскрипции, выполненной средствами современного компьютерного графического редактора, позволяющего на практике осуществить такое соединение. Такого рода электронная дипломатическая транскрипция, нацеленная на максимально полную передачу имеющейся в рукописи вербальной и графической информации в полном соответствии с динамикой творческой работы автора, преобразует писательские записи в легко читаемый текст, сохраняя визуальный облик рукописного источника, позволяя читать вербальный текст одновременно и в связи с окружающими его идеографическими элементами – в том виде, в каком ее читал сам Достоевский.
Публикация полной дипломатической транскрипции рукописи позволяет широкому кругу читателей (в первую очередь – специалистов в области изучения истории русской литературы) проникнуть в творческую лабораторию писателя, представленную в удобочитаемом и аутентичном виде, со всей присущей ей полнотой информации, при этом снимая проблему необходимости овладения навыками прочтения почерка конкретного автора, что видится вполне продуктивным при условии сознания возможностей ошибочных и вариативных прочтений.
В этом отношении следует согласиться с точкой зрения Д.С. Лихачева, который настаивает на одинаковой значимости и факсимильного, и дипломатического издания черновых рукописей. По мысли ученого, «смысл печатания черновика не в том, что он дает законченный текст, а в том, что он дает читателю представление о творческом процессе» [Лихачев 2006, 144–145]. Поэтому наиболее здравым подходом к публикации черновых рукописных материалов Д.С. Лихачев считает факсимильное издание, сопровождаемое дипломатической транскрипцией [Лихачев 2006, 146], которая послойно эксплицирует динамику работы писателя над произведением, явленную в пространстве конкретной страницы черновика. Нет оснований усомниться в верности такого предположения.
Как отмечалось выше, примененные ранее способы и приемы дипломатического воспроизведения рукописи по типографически-бумажной модели дают лишь самое общее, приблизительное представление о странице черновика, при этом неоправданно исключая графику и идеографию писателя, существенно искажая аутентичность облика рукописной страницы. Такого рода транскрипция смещается, во-первых, в сторону статической фиксации исправлений в черновом автографе, а во-вторых, нередко оказывается громоздким и сложным для восприятия отображением источника. Вариант разрешения этих издержек предлагается Н.А. Тарасовой, которая, развивая лихачевскую идею о параллельной публикации факсимиле и дипломатической транскрипции (заметим, что Лихачев имел в виду именно традиционную типографскую транскрипцию XIX в., с электронной полной транскрипцией он не был знаком), добавляет третью форму презентации рукописной страницы. Обращаясь к рукописным материалам «Дневника писателя» Достоевского, исследователь показывает, что черновой автограф можно издавать в трех видах: «…первый – факсимильный, второй – текстовый, с сохранением записей согласно их расположению в рукописи, третий – текстовый, без графического отражения особенностей расположения записей на каждом листе, но с описанием этих особенностей в сносках и с последующим обоснованием порядка воспроизведения текста» [Тарасова 2011, 347].
Что касается факсимиле, все его плюсы и минусы на поверхности, тут обсуждать нечего, что же касается «второго» и «третьего» метода, то здесь наблюдается методологическая неясность: что именно предлагает исследователь? «Третий» способ – это обычная в академических изданиях практика воспроизведения черновых записей, принятая, например, в Полных собраниях сочинений, «второй» – это традиционная гротовская транскрипция, разработанная еще при жизни Достоевского. Все три типа, со всей их ущербностью и недостаточностью, известны вот уже более ста лет. И все они дают рукопись черновика Достоевского в «сыром» (первый вариант), недостаточно полном (второй вариант) и сильно искаженном (третий вариант) виде.
Нет текстолога, который не согласился бы с тем, что именно живой конкретный материал рукописи должен диктовать пути подхода к ее изучению и публикации, что исключительно важны для адекватного понимания содержащейся на странице информации не только вербальные записи, но и горизон- тальные, вертикальные, диагональные направления записывания, подчеркивания, зачеркивания, вписывания, обрамления, обводки и т.п. Вербальный слой рукописи семантически связан с пространственно-семантическим особенностям источника, представляя авторские записи во взаимодействии с невербальной информацией, в их общей структурно аутентичной форме. Недостатком предложенного подхода [Тарасова 2011, 352–355], при всей его комплементар-ности авторскому оригиналу, является то, что облик оригинальной страницы дробится на три составляющих, и в каждом из трех вариантов нет возможности получить целостное представление о концептуальной взаимосвязи всех элементов рукописи как смыслового единства творческой работы.
Устранение этого противоречия между факсимильным и архаическим типографским транскрипционным воспроизведением рукописного источника становится возможным в современной текстологии посредством применения графического редактора и других цифровых методов обработки сканированной рукописи. Сегодня возможно найти баланс между полноценным сохранением внешнего образа черновой страницы и легкой, идентичной обычной текстовой публикации читаемостью авторских записей. Инновационные способы создания полной электронной дипломатической транскрипции позволяют преобразовать авторский текст в легко читаемые вербальные единицы и с максимальной точностью разместить их в пространстве страницы.
Для воспроизведения рукописного текста нами предлагается гарнитура Times New Roman в курсиве в роли нейтрального графического средства. В черновых записях Достоевского, выполненных скорописью, графика почерка не несет специальной смысловой нагрузки и потому может быть передана хорошо читаемым и простым шрифтом, в отличие от “каллиграфии”, в которой написание букв имеет семантическое значение. Все имеющие графическое и пространственно-семантическое значение компоненты – идеограммы, росчерки, линии отчеркивания, знаки пунктуации и «NВ» – сохраняются в первозданном виде. В транскрипции в адекватном виде, сравнительно с традиционными способами публикации, отражена функция подчеркивания слов в рукописи Достоевского, линии подчеркивания сохранены согласно оригиналу. Ранее, признавая важность указания на подчеркивания слов, в указанных выше изданиях «записных тетрадей» Достоевского была предпринята попытка отразить подчеркивания: курсивом (в ПСС) или разрядкой (Гливенко); в каждом из этих случаев сделанный писателем смысловой акцент передан с не всегда адекватной степенью условности. Предлагаемая транскрипция воспроизводит также физические размеры букв рукописного текста.
Недописанные слова и фразы передаются в оригинальном виде для придания большей точности в передаче расположения текста Достоевского в пространстве «тетради». Слова в некоторых словосочетаниях, написанных в рукописи слитно (например, «Вывъобморокъ») воспроизводятся раздельно, в соответствии с современной нормой орфографии. Знаки препинания, расставленные издателями в соответствии с нормой, но не обнаруженные нами в рукописи, опускаются.
В процессе осуществления такого рода текстологической обработки тетради Достоевского производится предварительное наложение текста транскрипции поверх рукописных записей на уровне «слоя» с последующим их удалением, что приводит к абсолютной точности воспроизведения всех элементов рукописи в их соответствии со структурно-графическим расположением в оригинале.
Опыт создания и публикации дипломатической транскрипции четырех «записных тетрадей» Достоевского, содержащих подготовительные материалы к созданию романа «Бесы» [Текстологическое исследование 2021], свидетельствует о продуктивности использования цифровых технологий в решении проблемы факсимильной и транскрипционной формы подачи рукописного источника. Разработка и научная апробация нового метода текстологической работы с рукописным источником [Баршт, Малафеевская 2014; Баршт, Березкина, Галашева 2018; Баршт 2022, 509–532; Чевтаев 2022] дает возможность исследователю или просто читателю, во-первых, увидеть аутентичный, и, одновременно, читаемый облик рукописи со всеми присущими ей особенностями творческой работы писателя в пространстве страницы, во-вторых, уяснить смысловую взаимосвязь вербальных и невербальных элементов писательского черновика.
Применение методов построения цифровой дипломатической транскрипции в работе с архивом Достоевского является принципиально значимым этапом текстологического и историко-литературного осмысления творческой «лаборатории» писателя. Черновые рукописи Достоевского представляют собой конгломерат пространственно-семантического взаимодействия словесных знаков и внеязыковых графических единиц творческого мышления, посредством которого осуществляется движение авторского сознания от первоначального замысла к его литературному воплощению. Помимо специфического расположения записей на странице черновика (перпендикулярно, диагонально, сбоку, перевернуто, поверх имеющихся строк) рукопись Достоевского содержит разветвленную и многомерную систему графических изображений, которые в соотношении со словесным материалом образуют «ряд словесно-графических композиций, составленных <…> из сочетания записей на нескольких языках: вербальном, графическом и промежуточном вербально-графическом (каллиграфических прописях), образующих в тесном смысловом взаимодействии нерасчленимое семантическое единство» [Баршт 2021, 6]. Соответственно, в «записных тетрадях» писателя формируется несколько «языков», семиотически репрезентирующих творческую логику порождения и развития образных, сюжетно-ситуативных и нарративных единиц создаваемого произведения [Баршт 2000]. Присущая сознанию Достоевского идеография характеризуется устойчивостью и функционально-семантическим единством реализации этапов творческой работы. Инвариантный характер использования идеографических знаков в «записных тетрадях» свидетельствует о концептуальной целостности художественного мировидения Достоевского и позволяет выделить несколько семиотических слоев идеографии.
Как показывают исследования, в рукописях писателя проявляется пять уровней идеографического письма, каждый из которых «указывает на определенный участок маршрута, ведущего к созданию художественной формы» [Баршт, Малафеевская 2014, 26]. Эти идеографические слои в черновых «тетрадях» Достоевского представлены, 1) портретными рисунками различных голов и лиц, 2) изображениями дубовых листьев и «готических» стрельчатых окон и арок, 3) «каллиграфическими» записями, 4) условными синтаксическими знаками (кругами, прямоугольниками, треугольниками, крестами и т.п.), 5) собственно текстовыми записями, характеризующимися скорописью, массой сокращений и обрывом написания лексем, то есть представляющими творческие «пробы» и сюжетно-фабульные решения создаваемых произве- дений [Баршт, Малафеевская 2014, 26]. Данные уровни организации творческой рукописи Достоевского образуют неразрывное семиотическое единство творческого акта, постижение которого оказывается возможным только в соотнесении словесного ряда с графическими компонентами конкретной рукописной страницы. Соответственно, цифровое построение дипломатической транскрипции позволяет представить читаемый текст рукописи писателя в аутентичном соотнесении с невербальными и вербально-графическими компонентами страницы и тем самым раскрыть специфические черты творческой работы Достоевского как идеографически явленного процесса «наращивания» образной и нарративной «плоти» будущих художественных произведений.