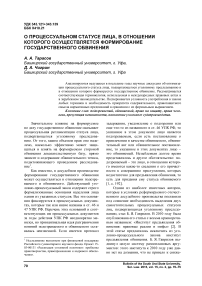О процессуальном статусе лица, в отношении которого осуществляется формирование государственного обвинения
Автор: Тарасов Александр Алексеевич, Чигрин Дмитрий Андреевич
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Статья в выпуске: 2 т.15, 2015 года.
Бесплатный доступ
Анализируются ведущиеся в последние годы научные дискуссии об оптимизации процессуального статуса лица, подвергающегося уголовному преследованию и в отношении которого формируется государственное обвинение. Рассматривается соответствующая терминология, используемая в международных правовых актах и в зарубежном законодательстве. Подчеркивается условность употребления в законе любых терминов и необходимость приоритета содержательного, правозащитного смысла нормативных предписаний в сравнении с их формальным выражением.
Подозреваемый, обвиняемый, право на защиту, права человека, презумпция невиновности, назначение уголовного судопроизводства
Короткий адрес: https://sciup.org/147149995
IDR: 147149995 | УДК: 343.121+343.139
Текст научной статьи О процессуальном статусе лица, в отношении которого осуществляется формирование государственного обвинения
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Анализируются ведущиеся в последние годы научные дискуссии об оптимизации процессуального статуса лица, подвергающегося уголовному преследованию и в отношении которого формируется государственное обвинение. Рассматривается соответствующая терминология, используемая в международных правовых актах и в зарубежном законодательстве. Подчеркивается условность употребления в законе любых терминов и необходимость приоритета содержательного, правозащитного смысла нормативных предписаний в сравнении с их формальным выражением.
Ключевые слов: подозреваемый, обвиняемый, право на защиту, права человека, презумпция невиновности, назначение уголовного судопроизводства.
Значительное влияние на формируемое по делу государственное обвинение оказывает процессуальная регламентация статуса лица, подвергающегося уголовному преследованию. От того, каким объемом прав оно наделено, насколько эффективно может защищаться и влиять на формируемую стороной обвинения доказательственную базу, прямо зависит и содержание обвинительного тезиса, подытоживающего проведенное расследова-ние1.
Как известно, в досудебном производстве формирование государственного обвинения может осуществляться в отношении подозреваемого и обвиняемого. Действующий уголовно-процессуальный закон содержит строго формализованные основания наделения лица одним из указанных статусов. Все эти основания фиксируются в процессуальных документах, которые так или иначе названы в ст. 46 и 47 УПК РФ. Перечень этих оснований и соответствующих им процессуальных документов за годы действия УПК РФ неоднократно менялся, но принципиальная идея разграничения понятий подозреваемого и обвиняемого оставалась неизменной. Если имеется протокол задержания, уведомление о подозрении или еще что-то из названного в ст. 46 УПК РФ, то указанное в этом документе лицо является подозреваемым, если есть постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительный акт или обвинительное постановление, то указанное в этих документах лицо – это обвиняемый. Незыблемым долгое время представлялось и другое обстоятельство: подозреваемый – это лицо, в отношении которого имеются какие-то сведения о его причастности к совершению преступления, которых недостаточно для предъявления обвинения, то есть для придания ему статуса обвиняемого [1, с. 192].
Одним из наиболее известных авторов, которые в условиях реформируемого отечественного досудебного производства поставили под сомнение необходимость выделения двух самостоятельных процессуальных статусов лиц, подвергающихся уголовному преследованию, стал Б. Я. Гаврилов. В 2010 году была опубликована его статья с весьма красноречивым названием: «Институт предъявления обвинения: правовые реалии и мифы» [2]. В этой статье предлагалось исключить из уголовно-процессуального закона институт предъявления обвинения. Б. Я. Гаврилов выдвинул целую систему разноплановых аргументов: этого института к 2010 году уже давно нет на дознании, что не привело к сниже- нию качества расследования; в 2007 году на дознании введен и апробирован более рациональный институт «уведомления о подозрении»; в пореформенном русском уголовном процессе этого института не было вплоть до 1887 года, и на практике без него легко обходились, а современный комплекс прав подозреваемого практически идентичен комплексу прав обвиняемого. В таких условиях, по мнению Б. Я. Гаврилова, предъявление обвинения превращается в избыточный институт, требующий от следственного аппарата столь же избыточных трудовых, организационных и финансовых затрат [2, с. 329, 330, 334].
Привлекающая внимание неординарностью постановки проблемы статья Б. Я. Гаврилова по иронии судьбы была опубликована в том же сборнике, что и статья Л. В. Макарова и Ю. А. Портнова с не менее красноречивым названием: «Подозреваемый в уголовном судопроизводстве – наследие прошлого или осознанная необходимость?» [5]. В этой статье авторы доказывают, что вовсе не обвиняемый, а подозреваемый, как минимум – спорный, как максимум – лишний участник российского уголовного процесса. Любопытно, что некоторые аргументы в пользу этого, противоположного, по сути, вывода, совпадают с приведенными выше аргументами Б. Я. Гаврилова: при дознании подозреваемый – это тот же обвиняемый, а правомочия подозреваемого и обвиняемого по действующему УПК РФ идентичны [5, с. 189, 191, 192]. Есть и содержательные различия в аргументации – Б. Я. Гаврилов апеллирует к историческому российскому опыту (дореволюционному и советскому), а Л. В. Макаров и Ю. А. Портнов – к современному европейскому – к тексту Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и к решениям Европейского Суда по правам человека. О корректности последнего имеет смысл далее сказать отдельно, поскольку поиск сугубо русских слов «подозреваемый» и «обвиняемый» в англоязычных и франкоязычных оригиналах и Европейской конвенции, и решений Европейского Суда представляется малопродуктивным занятием, особенно если признаешь трудность лингвистического разграничения между этими словами даже в родном русском языке [5, с. 192].
Вопрос о том, как называть человека, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, может показаться порож- денным богатством русского языка. Однако бесспорное влияние последнего на законодательную терминологию иногда сложно охарактеризовать как положительное.
Термин «подозреваемый» имеет заведомо менее определенный, а потому и менее радикальный характер, нежели термин «обвиняемый». Толкуя рассматриваемое слово буквально, можно прийти к выводу о том, что именуемый так субъект обладает неким «переходным» статусом. Тем не менее появление условий, указанных в ст. 46 УПК РФ, влечет за собой возникновение государственного принуждения в отношении конкретного лица и неминуемое ограничение его конституционных прав. Ведь наличие «подозрения», подкрепленного соответствующими действиями, свидетельствует о фактическом осуществлении обвинительной деятельности.
Между тем объем прав, которыми наделен подозреваемый, несколько меньше, нежели у обвиняемого. При этом факт ограничения прав и свобод личности имеет одинаково большое значение на всех этапах уголовного процесса. Однако использование различных лексических единиц обусловливает наделение лиц, находящихся в одинаково сложном положении, неравноценным правовым статусом. Полагаем, что подобная ситуация стала возможной вследствие восприятия законодателем терминов «подозреваемый» и «обвиняемый» в значении, приближенном к бытовому. Последнее же явно неспособно правильно отразить место и роль данных участников в структуре уголовного процесса.
В качестве одной из причин, в силу которых стало возможным уменьшение прав стороны защиты при сохранении достаточных полномочий у стороны обвинения на одном из процессуальных этапов, следует расценивать именно лингвистическое значение используемых слов, в процессе законотворчества неверно оказавшееся в приоритете по отношению к наделению их верным правовым содержанием. Из сказанного можно сделать вывод о необходимости принятия во внимание этимологии используемых терминов в процессе правотворчества в целях придания им надлежащего правового смысла.
Однако, рассуждая с позиций обыденного сознания и здравого смысла, полагаем, что лицу, подвергающемуся уголовного преследованию, и его близким нет ровно никакого дела до того, называют ли его подозреваемым или обвиняемым. При объективно необоснованном подозрении или обвинении и то и другое одинаково обидно, при объективно обоснованном возникает потребность в целенаправленной защите, которую государство обязано обеспечить, чтобы иметь основания называться правовым.
С точки зрения же уголовно-процессуальной науки этот вопрос выглядит несколько сложнее, поскольку приобретает вовсе не лингвистическое, и не статистическое, а содержательное свойство: есть ли необходимость в дубляже идентичных процессуальных фигур; обеспечиваются ли принятые в современном мире стандарты справедливой судебной процедуры применительно к каждой из них; какой из них отдать предпочтение, если законодателю пришлось бы делать выбор?
Прежде чем сформулировать собственное видение ответов на перечисленные вопросы, обратимся к статье А. П. Кругликова, название которой созвучно двум приведенным ранее: «Обвиняемый: нужен ли такой участник в уголовном процессе современной России?», опубликованной в 2014 году [4]. Автор утверждает, что обвиняемый в уголовном процессе России – это тот же подозреваемый, поскольку до вступления в законную силу обвинительного приговора суда он не может считаться обвиняемым в соответствии с принципом презумпции невиновности [4, с. 106–107]. В соответствии с этим А.П. Кругликов предлагает использовать в законе слово «подозреваемый» в отношении сегодняшних подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, что, по его мнению, способствовало бы устранению из российского правосудия обвинительного уклона. Судья, как считает А. П. Кругликов, зная, что на скамье подсудимых сидит только еще подозреваемый в совершении преступления, будет исходить из равной возможности как обвинения его, так и оправдания [4, с. 107, 109, 110].
Поскольку и здесь автор использует лингвистическую аргументацию, полагаем необходимым вернуться к вопросу о корректности обращения к русским переводам иностранных законов и иноязычных международноправовых документов в спорах по поводу русской юридической терминологии. А. П. Кругликов, ссылаясь на изданный в Красноярске в переводе на русский язык учебник уголовнопроцессуального права ФРГ В. Бойльке, пи- шет о разных степенях подозрения в совершении преступления в УПК ФРГ – предположения, начального подозрения, достаточного подозрения и сильного подозрения. В контексте этих размышлений А. П. Кругликов оговаривается, что участник процесса, в отношении которого имеются «достаточное» и «сильное» подозрения именуется «обвиняемым» [4, с. 108]. И никак иначе, поскольку действующее лицо, субъекта правоотношений, закон обязан как-то называть. Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее, обратившись к оригинальному тексту УПК ФРГ и к его постатейным комментариям.
В германском уголовно-процессуальном законе использовано четыре термина для обозначения лица, подвергающегося уголовному преследованию на разных этапах производства по делу: Verdächtiger, Beschuldigter, Ange-schuldigter, Angeklagter. В этом перечне участники процесса приведены по мере возрастания степени доказанности их причастности к преступлению и в соответствии с теми процессуальными решениями, которые в отношении них приняты. Verdächtiger – это лицо, в отношении которого есть то самое «предположение» о причастности к преступлению, но еще не ведется уголовное преследование. Именно поэтому в наименовании участника присутствует корень «-dächt-», изначально происходящий от одной из форм глагола «denken» (dachte, gedacht) – «думать»). Русское слово «подозреваемый» точно также изначально происходит от слова «зрить», то есть «видеть». Стало быть, немецкий Verdächtiger – это всего лишь «тот, на кого подумали», подобно тому, как русский подозреваемый – это тот, кого «узрили» в чем-то. Лингвистическая разница, как видим, невелика.
Разница начинается по мере накопления сведений о причастности к преступлению. Тому, что в процитированном учебнике В. Бойльке названо «начальное подозрение» (в оригинале – «Anfangsverdacht»), предшествует еще и «dringender Tatenverdacht» (буквально – «срочное подозрение», напоминающее наши «случаи, не терпящие отлагательства»), а следует за ним также названное выше достаточное подозрение (hinreihender Tatenver-dacht) [3, с. 125]. Лицо, в отношении которого до суда ведется уголовное преследование – деятельность, направленная на собирание доказательств, достаточных для hinrei- hender Tatenverdacht, называется Beschuldigter, тот в отношении кого прокурор выдвинул обвинение перед судом, до начала судебного заседания называется Anges-chuldigter. Заметим, что в обоих этих наименованиях присутствует корень «-schuld-», который имеет единственный пригодный для этого контекста перевод на русский язык – «вина» (второе значение – «долг», не характерное для уголовно-процессуального контекста). В связи со сказанным все размышления о том, что в германском уголовном процессе до приговора суда существует лишь подозреваемый, лишены лингвистических и правовых оснований. Более того, лицо, в отношении которого суд уже открыл судебное заседание, именуется достаточно нейтральным словом Angeklagter, происходящим от слова «Anklage», которое переводится на русский язык как «уголовное преследование», «обвинение» и даже как «жалоба» или «иск». Вот здесь, как представляется, и заложено главное содержание правосудия – представ перед судом, человек является тем, в отношении которого лишь выдвинуто обвинение, то есть обращенная к суду просьба о признании правоты органов уголовного преследования, которая в равной степени может быть и удовлетворена и отклонена. Названия вторичны по отношению к сути.
Именно поэтому выше было сказано, что поиск русских слов «подозреваемый» и «обвиняемый» в тексте Конвенции о защите прав человека и основных свобод, равно, как и в решениях Европейского суда по правам человека, мало что дает в уяснении смысла процессуального статуса лица, подвергающегося уголовному преследованию.
В оригинале текста Европейской конвенции при обозначении в п. 3 ст. 6 минимального набора прав лица, «обвиняемого в совершении преступного деяния», используется словосочетание «charged with a criminal of-fence», что дословно именно это и означает. Однако в англоязычной правовой литературе для обозначения обвиняемого именно как «стороны в уголовном процессе» используются совсем другие слова – «accused», «defendant», «indicted». Это дает достаточные основания утверждать, что в тексте Конвенции слово, которое мы привыкли переводить как «обвиняемый», означает вовсе не уголовно-процессуальный статус, привязанный к конкретным процессуальным действиям и к конкретным властным решениям, оформляемым какими-то конкретными документами. Речь в Конвенции идет о физическом лице, в отношении которого государственные органы осуществляют уголовное преследование, то есть деятельность, направленную на уличение этого лица в совершении преступления. Как бы ни называлось это лицо в национальном законодательстве и независимо от того, был ли процессуальный статус такого лица хоть как-то документально оформлен, он должен быть «незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения», «иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты» и так далее – все перечисленное в п. 3 ст. 6 Конвенции и в других ее статьях. В литературе отмечается, что в современном уголовно-процессуальном законе Франции лицо, подвергающееся уголовному преследованию, до осуждения именуется «лицом, привлеченным к рассмотрению» [4, с. 108]. По мнению Л. В. Головко, французский законодатель намеренно избегает употребления для его обозначения слов с корнем «вина», последовательно отстаивая принцип презумпции невиновности, а А. П. Кругликовым это расценивается как дополнительный аргумент в пользу отказа от процессуальной фигуры обвиняемого [4, с. 108]. Считаем необходимым подчеркнуть в этом контексте условность всех употребляемых в законе терминов, конкретность вкладываемого в каждое из них смысла. Так, во франкоязычном оригинале Европейской конвенции лицо, подвергающееся уголовному преследованию, названо словом «accusé», которое на русский язык переводится и как «обвиняемый», и как «подсудимый» (ст. 268 УПК Франции во всех доступных русских переводах). Это слово созвучно английскому «accused», которое в английском праве традиционно используется для обозначения стороны в уголовном процессе, противостоящей обвинению. При всей кажущейся однозначности констатации факта «обвинения» в отношении этого участника процесса общий смысл Европейской конвенции и всех ее отдельных положений не оставляет сомнений в ее последовательной приверженности презумпции невиновности.
При соблюдении сложившихся в мировой практике стандартов справедливого правосудия необходимость в дублировании процессуального статуса подозреваемого и обвиняемо- го может, действительно, отпасть, что в свою очередь положительно повлияет на объективность, прозрачность и достоверность процедуры формирования государственного обвинения. Однако думается, что единый статус лица, подвергающегося уголовному преследованию, может быть сформирован вовсе не путем законодательного выбора между имеющимися процессуальными фигурами подозреваемого и обвиняемого, а путем суммирования всех прав, присущих обоим статусам. Так, возможность как можно более раннего обращения за квалифицированной юридической помощью (в момент фактического задержания подозреваемого) и право хранить молчание должны сочетаться с возможностью получить максимально полные объяснения представителя власти по поводу имеющихся у государства претензий к этому человеку (здесь мы сознательно избегаем обоих процессуальных терминов – «подозрение» и «обвинение»), а также об основаниях этих претензий. Оптимизация любых процессуальных институтов должна ориентироваться на правозащитное назначение уголовного судопроизводства. Тогда конкретные термины будут вторичны по отношению к правовому содержанию обозначаемых ими категорий.
Список литературы О процессуальном статусе лица, в отношении которого осуществляется формирование государственного обвинения
- Уголовно-процессуальное право Российской Федерации/отв. ред. Ю. К. Якимович. -СПб., 2007. -896 с.
- Гаврилов, Б. Я. Институт предъявления обвинения: правовые реалии и мифы/Б. Я. Гаврилов//Актуальные проблемы современного уголовного процесса России: межвуз. сборник научных трудов/под ред. В. А. Лазаревой. -Самара: Изд-во «Самарский университет», 2010. -Вып. 5. -С. 329-335.
- Головенков, П. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия -Strafprozessordnung (StPO): научно-практический комментарий и перевод текста закона со вступительной статьей профессора Уве Хелльманна «Введение в уголовно-процессуальное право ФРГ»/П. Головенков, Н. Спица. -Потсдам: Universitätsverlag Potsdam, 2012.
- Кругликов, А. П. Обвиняемый: нужен ли такой участник в уголовном процессе современной России?/А. П. Кругликов//Вестник Самарского государственного университета. -2014. -№ 11/2 (122). -С. 106-112.
- Макаров Л. В. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве -наследие прошлого или осознанная необходимость?/Л. В. Макаров, Ю. А. Портнов//Актуальные проблемы современного уголовного процесса России: межвуз. сборник научных трудов/под ред. проф. В. А. Лазаревой. -Самара: Изд-во «Самарский университет», 2010. -Вып. 5. -С. 189-194.