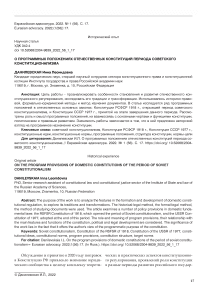О программных положениях отечественных конституций периода советского конституционализма
Автор: Данилевская Инна Леонидовна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Исторический опыт
Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель работы - проанализировать особенности становления и развития отечественного конституционного регулирования, исследовать его традиции и трансформации. Использовались историко-правовой, формально-юридический методы и метод изучения документов. В статье исследуется ряд программных положений в отечественных основных законах: Конституции РСФСР 1918 г., открывшей период советского конституционализма, и Конституции СССР 1977 г., принятой на этапе завершения данного периода. Рассмотрены роль и смысл программных положений, их взаимосвязь с основными чертами и функциями конституции, политическим и правовым развитием. Значимость работы заключается в том, что в ней предложен авторский взгляд на программное назначение конституции.
Советский конституционализм, конституция рсфср 1918 г, конституция ссср 1977 г, конституционные идеи, конституционные нормы, программные положения, структура конституции, нормы-цели
Короткий адрес: https://sciup.org/140293906
IDR: 140293906
Текст научной статьи О программных положениях отечественных конституций периода советского конституционализма
ства. Очевидно, что многогранность правовой природы конституции не исчерпывается дефиницией этого понятия как основного закона государства, определяющего основы общественного и государственного строя и систему его государственных органов. Каких-либо аксиом в определении предмета конституционного регулирования и, соответственно, структуры конституции не существует. Каждая конституция – это продукт переплетения объективного и субъективного, на её предмете и структуре прямо отражаются общественно-политическая система, возобладавшая в соответствующей стране, принятые за основу концепции, усмотрения лиц и органов, готовивших конституцию [1, с. 16, 26].
Вместе с тем, если речь идет об основном законе как кодифицированном акте, охватывающем все нормы высшей юридической силы, то он имеет стандартную структуру: включает преамбулу, основную часть и заключительные и переходные положения. Своеобразие конституционных норм проявляется в приоритете учредительных норм, норм-целей, норм-принципов. Конституция призвана выступать как маяк, ориентирующий общественные процессы, представляя собой концентрированное выражение нового формирующегося общественного мировоззрения [2, с. 23, 28–29].
В истории становления и развития отечественного конституционного регулирования программные конституционные положения играли знаковую роль, учитывая, что идеологический, мировоззренческий образ государства формировался, в том числе, и с помощью конституций, так как именно в основном законе государство обозначает свои базовые ценности, фундаментальные цели, планы и программы развития, представляя мировому сообществу конституцию как «лицо» государства. Отметим, что «программность» трактовалась советскими исследователями как одна из основных черт конституции, наряду с такими её чертами, как гуманизм, научность и реальность [3, с. 43–50]. Направляющее воздействие программных конституционных положений, как правило, не связано хронологически с периодом действия конкретной конституции, в которую они включены, и в этом их особенность. Вместе с тем программное положение, ставшее нормой права, должно включаться в процесс нормативного регулирования, закладывать основу для практической реализации, связанной с правоприменением, с решением практических задач. Именно этот вектор движения интересует гражданское общество, способствуя его созданию и укреплению. Принятие конституции – это, как правило, новый рубеж, итог взаимодействия различных политических сил, трансформация мировоззрения и ценностных установок и, как показывает отечественный исторический опыт, появление абсолютно новых нормативных принципов и подходов в строительстве государства и права.
Советские конституции 1918, 1924, 1936 и 1977 годов, представлявшие собой конституционную модель открыто идеологизированных советских конституций тоталитарного социализма [4, с. 49], отразили специфику конституционноправовой культуры периода советского конституционализма, длившегося с конца 1917 до конца 1991 г., в частности, особый статус коммунистической партии в советском государстве. При этом в содержании Конституции РСФСР 1918 г., открывшей период советского конституционализма, и Конституции СССР 1977 г., принятой на этапе завершения данного периода, присутствовали знаковые программные положения, формулировавшие ключевые цели развития советского государства и общества на соответствующих этапах его развития.
В контексте исторического развития права исследователи подчеркивают продуктивность норм-деклараций, которые работают в качестве регулятора во времена острых политических кризисов, требующих серьезного пересмотра конституционных основ общества, когда расшатанная правовая система оказывается на грани падения, перестают действовать привычные методы и источники права. Именно в экстраординарных условиях нормы-декларации открывают новую страницу в конституционной истории общества [5, с. 691–692]. Как отмечал один из членов Конституционной комиссии по разработке первой советской конституции, русский советский государствовед М.А. Рейснер, на первый план была выдвинута политика с её творческим устремлением вперед и созиданием новых общественных форм [6, с. 293]. В основу Конституции 1918 г., уникального документа, отразившего дух, стиль и острые противоречия сложнейшего периода кардинальных преобразований государства и общества, сопровождавшихся хаосом, разрухой и борьбой, была положена «идея цели, она стала рабочим планом общественного строительства, лишенного формальной, предательской справедливости»; целевые, программные установки пронизывали этот высший акт советского законодательства сверху донизу [6, с. 150, 152; 7, с. 294], в ней доминировали так называемые нормы-цели, смысловое соотношение цель – будущее, а сам конституционный текст отличался концентрацией таких лексем, как цель, зада- ча, подготовление, переходный, объединенных общим компонентном значения – будущее [8, с. 218]. При этом документ идеологически строился в русле стратегии «создание круга своих» и «создание круга чужих» [9, с. 5], кардинально разделяя граждан на трудящихся (эксплуатируемых) и «паразитические слои общества» – эксплуататоров. В этом революционном марксизме, как отмечал Н.А. Бердяев, заключался сильный элемент моральной оценки и морального осуждения, под которое подходил, в сущности, весь мир, за исключением верных марксистско-коммунистическим верованиям [10, с. 283]
Незадолго до принятия Конституции, в мае 1918 г. в работе «Шесть тезисов об очередных задачах советской власти» В.И. Ленин, в частности, указывал, что «задача убедить трудящихся России в правильности программы социалистической революции и задача отвоевания России от эксплуататоров для трудящихся являлись в основных чертах завершенными», главной задачей, по мнению вождя мирового пролетариата, являлась организация правильного управления Россией, что было условием полной победы советского типа государства…» [11, с. 59–60].
Правильному управлению Россией должно было способствовать программное назначение Конституции РСФСР 1918 г., отраженное в ней в полной мере. Так, на будущую перспективу были направлены программные нормы об уничтожении всякой эксплуатации человека человеком; полном устранении деления общества на классы; беспощадном подавлении эксплуататоров; установлении социалистической организации общества; победе социализма во всех странах и об установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти. Для реализации этих программных положений провозглашался ряд практических мер, таких как национализация земли, лесов, недр и воды общегосударственного значения, банков, введение рабочего контроля на предприятиях, аннулирование займов, заключенных старым правительством, лишение прав отдельных лиц и групп, которые пользуются ими в ущерб интересам социалистической революции и т. п.
Программное положение о закреплении коренных начал федерации было реализовано принятием основных законов в ряде автономных республик, входивших в те годы в состав РСФСР. Начиная с 1919 г. принимаются основные законы и в других советских республиках, которые были образованы в 1917–1921 гг. при непосредственной помощи РСФСР на территории бывшей Российской империи: в 1919 г. – ССР Латвии, Белоруссии, Украинской ССР; в 1921 г. – Азербайджанской ССР; в 1922 г. – ССР Армении, ССР Грузии, Бухарской НСР, Харезмской СНР, ЗСФСР. Данные акты были едины в закреплении власти трудящихся, в организации советского аппарата, основ социально-экономической политики, правового статуса граждан. В принципе они были идентичны в вопросах регулирования, закрепления положений, относящихся к практическому конституционализму [12, с. 156]. Конституция фактически продолжила воплощать идеологию советского государственного строительства, заложенную с октября 1917 г. по июль 1918 г. предшествующими законодательными актами конституционного уровня, регламентировавшими цели создания советского государства, концепции его государственного устройства и других государственных институтов на основе теоретических разработок, конституционных идей и ценностных установок партии большевиков по главе с В.И. Лениным, в частности, созданным им программным документом – Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г., «в момент решительной борьбы пролетариата с его эксплуататорами» [13, с. 41–45].
Можно констатировать, что программные положения Конституции РСФСР 1918 г. остались идеологическим фундаментом для дальнейшего конституционного регулирования, однако стать основой для реализации правильного управления страной так и не смогли. Представляется, что вопрос о соотношении программного назначения конституции с реальной законодательной программой государства носит дискуссионный характер. Здесь необходимо учитывать специфику советского конституционализма, заключающуюся в особом статусе партии РКП(б) как единственной, правящей, руководившей де-юре и де-факто всем государством. В теоретическом и практическом плане эта проблематика остается актуальной, поскольку конституция даже при различных формах государственного устройства остается мировоззренческим документом, следовательно, её идейное наполнение, программа должны нести формирующее действие, «встраиваться» в ожидания общества, сочетаясь при этом с реальной действительностью.
Следующие советские конституции – Конституция СССР 1924 г., ставшая логическим завершением образования Советского Союза [14, с. 188], и «сталинская» Конституция СССР 1936 г. новых программных положений не содержали, они сохраняли и продолжали идеологическую направленность программных установок первого советского основного закона.
В этой связи небезынтересно отметить, что в 1964 г., в период так называемой «хрущевской оттепели», был разработан новый проект Конституции СССР, предусматривавший программные положения, сформулированные как главные цели и идеалы, на осуществление которых было направлено действие конституционных норм. Отметим, что, по мнению авторов проекта, отсутствие программных норм в Конституции 1936 г. нарушало ленинские принципы о необходимости программных положений в основном законе. Проект закреплял, в частности, высшую цель советского народа – построение коммунизма, что соответствовало идеологическому курсу, который в период принятия решений о разработке конституционного проекта определяла принятая XXII съездом КПСС Третья Программа партии, формулировавшая построение коммунистического общества как «непосредственную практическую задачу советского народа» [15, с. 22–36].
Действующей конституцией конституционный проект 1964 г. не стал, следующая советская Конституция была принята только в 1977 г. Сохраняя преемственность идей и принципов предшествующих конституций, Конституция СССР 1977 г. содержала целый ряд программных положений, закрепляя, в частности, высшую цель Советского государства – построение бесклассового коммунистического общества, в котором получит развитие общественное коммунистическое самоуправление. Она сформулировала главные задачи социалистического общенародного государства: создание материально-технической базы коммунизма, совершенствование социалистических общественных отношений и их преобразование в коммунистические, воспитание человека коммунистического общества, повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся, обеспечение безопасности страны, содействие укреплению мира и развитию международного сотрудничества. Как известно, провозглашенные достойные, благие цели, закрепленные программными положениями Конституции СССР 1977 г., не только не получили практической реализации и остались, по сути, лозунгами, они привели к стагнации, деформации правосознания и духовной жизни советского общества. Если обратиться к теоретической составляющей, то отчасти это было связано с прекращением после смерти В.И. Ленина теоретических разработок по про- блематикам социалистического государства и советского строительства, в практическом плане имели место ошибки в социально-экономической сфере. Однако не менее серьезной ошибкой, по нашему мнению, представляется неразработанность программного положения о национальной идее, которая могла трансформироваться в государственный интерес, слагаемый из интереса каждого гражданина, сохранив и преумножив идейную консолидацию советского общества, способствуя солидарной деятельности и формированию общности существующих целей. Как отмечал русский философ А.И. Ильин, первое, что делает человека гражданином, это принятие государственной цели, именно в этом состоит сущность государства, в котором все его граждане имеют, помимо многих личных, различных интересов, единую цель и один общий интерес [16, с. 335–337].
В сегодняшних реалиях неоднородного, неопределенного и нестабильного современного мира возрастает роль конституционных норм как социальных регуляторов, с помощью которых возможно поддерживать организованность общества и правопорядок. Эволюция общественных процессов, предопределяя социальные, экономические, политические преобразования, обусловливает необходимость трансформации конституций. При этом одной из важнейших конституционных ценностей остается стабильность системы государственной власти, ориентированной на защиту прав и свобод [17, с. 4].
Список литературы О программных положениях отечественных конституций периода советского конституционализма
- Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М.: РЮИД, Сашко, 2000. С. 528.
- Конституция, закон, подзаконный акт / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: Юрид. лит., 1994. С. 136.
- Советское государственное право и советское строительство / под ред. Н.П. Фарберова. М.: Юрид. лит., 1967. С. 351.
- Хабриева Т.Я. Избранные труды: в 10 т. Т. 5. М., 2018. С. 504.
- Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 800.
- Рейснер М.А. Государство буржуазии и РСФСР. М.: Государственное издательство, 1923. С. 419.
- Рейснер М.А. Основы Советской Конституции. М.: Издание Академии Генерального Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 1920. С. 238.
- Лоскутова К.Н. Язык права в политической лингвистике (тексты Конституции 1918 и 1936 годов) // Политическая лингвистика. 2011. № 4 (38). С. 217–222.
- Самарина И.В. Коммуникативные стратегии «создания круга чужих» и «создания круга своих» в политической коммуникации (прагмалингвистический аспект): автореф. дис. … канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 21.
- Бердяев Н.А. Судьба России. Самосознание. Ростов н/Д: Феникс, 1997. С. 544.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988): в 16 т. М.: Институт Марксизма–Ленинизма при ЦК КПСС, 1983. Т. 2 (1917–1922). С. 606.
- Шульженко Ю.Л. Конституция – основа советского конституционализма государства периода диктатуры пролетариата // Социально-политические науки. 2018. № 5. С. 152–158.
- Съезды советов РСФСР в постановлениях и резолюциях: сборник документов / под общ. ред. А.Я. Вышинского. М.: Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1939. С. 540.
- Чистяков О.В. Конституция СССР 1924 года: учеб. пособ. М.: ИКД «Зерцало-М», 2004. С. 224.
- Ильин И.А. Учение о правосознании // Родина и мы: статьи. Смоленск: Посох, 1995. С. 512.
- Данилевская И.Л. Из истории советского конституционализма: проблематика политической системы в проекте Конституции СССР 1964 г. // Отечественныйконституционализм: история и современность: сборник научных трудов / под общ. ред. Ю.Л. Шульженко. М.: Институт государства и права РАН, 2021. С. 22–36 [Электронный ресурс]. 1 опт. компакт-диск.
- Виноградова Е.В., Виноградова П.А. Укрепление конституционных гарантий поправками 2020 года в Конституцию Российской Федерации: монография. М.: Эдипус, 2020. С. 200.