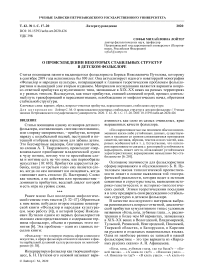О происхождении некоторых стабильных структур в детском фольклоре
Автор: Лойтер Софья Михайловна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена памяти выдающегося фольклориста Бориса Николаевича Путилова, которому в сентябре 2019 года исполнилось бы 100 лет. Она актуализирует идеи его новаторской монографии «Фольклор и народная культура», возвращающей к главным теоретическим проблемам фольклористики и вышедшей уже вторым изданием. Материалом исследования являются варианты вопросо-ответной прибаутки кумулятивного типа, записанные в XIX-XX веках на разных территориях и у разных этносов. Исследуется, как текст прибаутки, ставшей словесной игрой, прошел длительный путь трансформаций и пересемантизации, освобождения от мифологических начал, обретения стабильной структуры.
Вариант, обряд, вопросо-ответная прибаутка, пересемантизация, стабильная структура
Короткий адрес: https://sciup.org/147226550
IDR: 147226550 | УДК: 398 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.426
Текст научной статьи О происхождении некоторых стабильных структур в детском фольклоре
Статья посвящена одному из жанров детского фольклора, составляющих «поэзию пестования», или «лирику материнства», – прибаутке, которая наряду с колыбельной песней, пестушкой и потешкой отобрана взрослыми для забавы детям. Это бессмертные шедевры, благодаря которым, по словам А. Т. Твардовского, происходит «первоначальное приобщение младенческой души к чуду поэзии, потому что те простейшие слова и мотивы есть не что иное, как первообразы искусства» [10: 610]. Прибаутки адресуются ребенку, когда «о третьем годе» ему является слово, когда он сам начинает им овладевать, когда «начинает жить стихом» (Б. Пастернак). Слово как таковое, а не действие или происшествие – доминанта прибаутки, веселый диалог которой и есть игра на уровне слова.
***
Ранее мною был исследован мифологический генезис этих текстов [3: 32–47]. Обратиться к ним вновь побудило второе издание новаторской книги «Фольклор и народная культура» (см. мою работу [4]), в которой Борис Николаевич Путилов одним из первых фольклористов изложил свои представления о содержании термина «фольклор», объеме и границах этого понятия [6]. Эта проблема – один из главных посылов книги:
«Фольклор – это в первую очередь сфера словесного искусства, к сфере фольклора относятся явления и факты вербальной духовной культуры во всем их многообразии» [6: 38].
Интерпретируя фольклор как творческий процесс, Б. Н. Путилов его основой называет вари
ативность как одно из самых очевидных, ярко выраженных качеств фольклора.
«Под вариативностью мы понимаем обычно видоизменения каких-либо устойчивых данных, существующих в традиции со своими сложившимися признаками сюжетов, мотивов, образов, текстов или их частей, жанровых особенностей и т. д. Естественно, что категория вариативности связана с категорией устойчивости: варьировать может нечто, обладающее устойчивыми характеристиками; варьирование немыслимо без стабильности» [6: 201].
Осознание значимости для фольклористики сформулированного и обусловленного Б. Н. Путиловым закона типологической преемственности лежит в основе выявления той этнографической реальности, которая ведет к истокам семантики и структуры текста, выявления историко-генетических и историко-типологических связей. Этими теоретическими посылами я и хочу предварить свои рассуждения о стабильных структурах в детском фольклоре.
В качестве исследуемого материала выбрана разновидность вопросо-ответной, диалогической прибаутки кумулятивного типа с условным названием «Коза, коза, лубяные глаза…», рассмотренная в более чем 60 вариантах, записанных в XIX–XX веках в Вологодской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, в Белоруссии, в Карелии на русском и отдельных национальных языках. Одна из наиболее ранних ее записей в нашей фольклористике – это три варианта из «Народных русских сказок» А. Н. Афанасьева.
«Коза, коза, лубяные глаза, где ты была?» – «Коней пасла». – «А кони-то где?» – «Николка увел». – «А Николка-то где?» – «В клеть ушел». – «А клеть-то где?» – «Водой унесло». – «А вода-то где?» – «Быки выпили». – «А быки-то где?» – «В гору ушли». – «А гора-то где?» – «Черви сточили». – «А черви-то где?» – «Гуси выклевали». – «А гуси-то где?» – «В вересняк ушли». – «А вересняк-то где?» – «Девки выломали». – «А девки-то где?» – «Замуж выскакали». – «А мужья-то где?» – «Все примерли».
В Примечаниях к текстам оговаривается, что «это не сказки в собственном смысле слова, а прибаутки»1. Тогда, во времена Афанасьева, детский фольклор еще не был осознан как самостоятельная область народной культуры и не имел собственных публикаций. Варианты этой прибаутки включались составителями сказочных сборников и в более близкие нам времена, а В. Я. Пропп ввел их в XI раздел статьи «Кумулятивная сказка», оговорив, что «они представляют собой не сказки, а прибаутки» (СУС 2015 1, АТ 2016) [7: 257].
Приведу вариант (один из семи), записанный в 1931 году в Тверской области, из сборника «Детский фольклор»:
«Ах ты, козынька-коза, лубяные глаза! Где ты, ко-зынька, была?» – «Коней пасла». – «Чего выпасла?» – «Жеребеночка». – «Жеребенок-то где?» – «Миколка увел». – «А Миколка-то где?» – «В клетку ушел». – «А клетка-то где?» – «Водой унесло». – «А вода-то где?» – «Кони выпили». – «А кони-то где?» – «В тресняк ушли». – «А тресняк-то где?» – «Девки выломали». – «А девки где?» – «Замужья ушли». – «А мужья-то где?» – «Все примерли». – «А могилки-то где?» – «Травой заросли». – «А трава-то где?» – «Коса выкосила». – «А коса-то где?» – «Изломалася». – «А обломки где?» – «В кузнице». – «А кузница где?» – «В огне сгорела». – «А кузнец-то где?» – «По миру пошел»2.
В 1979 году в селе Ялгуба Прионежского района Карелии студенческой фольклорной экспедицией педагогического института был записан текст:
«Коза, коза, лубяные глаза, где была?» – «Коней пасла». – «Кого выпасла?» – «Жеребеночка». – «Где этот жеребеночек?» – «Миколка увел». – «Где этот Миколка?» – «По клиньям ушел». – «Где эти клинья?» – «Водой снесло». – «Где же вода?» – «Быки вызымали». – «Где же эти быки?» – «За горами лежат». – «А где же эти горы?» – «Черви выточили». – «А где же эти черви?» – «Гуси выклевали». – «Где же эти гуси?» – «В тре-песняк (тростник. – С. Л .) ушли». – «Где этот трепес-няк?» – «Девки выломали». – «А где эти девки?» – «По замужьям ушли». – «А где эти замужья?» – «У Бога в раю в золотом пузырю»3.
Одна из наиболее поздних записей 1992– 2000 годов сделана на Пинеге Архангельской области:
« Векша- векошка, горожаночка, (векша – белка), где была?» – «У города». – «Что там делала?» – «Коней пасла». – «Кони-то где?» – «За воротами». – «Ворота-то где?» – «Николка воду унес». – «А вода-то где?» – «Гуси выпили». – «Гуси-ти где?» – «Гуси в лес ушли». – «А лес-от где?» – «Люди вырубили». – «А люди-ти где?» – «Люди вымерли». – «А могилки-ти где?» – «Травой заросли». – «Трава-то где?» – «Косы выкосили». – «Косы-ти где?» – «Косы выломаны». – «Обломки-то где?» – «В кузнице на полке». – «Кузнец ковал, себе голову сковал, на кол посадил, г… окатил»4.
О популярности, распространенности этой прибаутки кумулятивного типа свидетельствуют ее варианты белорусского и карельского фольклора. В белорусском сборнике «Дзiцячы фаль-клор» шесть вариантов этой прибаутки с той же вопросо-ответной цепью, но другим обращением:
«Ласачка», «ласынька» – «дзе была?», «дзе вада?», «дзе валы?», «дзе чэрвi?» и т. д.1
А это вопросо-ответы одного из вариантов карельской прибаутки, записанной в 1975 году в поселке Кестеньга Лоухского района:
«Где топор?» – «На пне». – «Где пень?» – «На подсеке». – «Где подсека?» – «Огонь сжег». – «Где огонь?» – «Вода унесла». – «Где вода?» – «Бык выпил». – «Где бык?» – «Закололи». – «Где мясо?» – «Черви съели». – «Где петух?» – «В кошельке». – «Где кошелек?» – «В сундуке». – «Где сундук?» и т. д.5
Поиски, выявление «начал» и «прототекста» этих вопросо-ответов на семантическом и глот-тогенетическом уровне ведут к обрядовым текстам. Именно в «загадочных текстах» обрядовой поэзии, как доказывает В. Н. Топоров, «исходный локус» и «сильная позиция» вопросо-ответного диалога (ВОД) [8: 13], [9: 125]. В восточнославянской традиции это прежде всего тексты, связанные с ритуалом зимнего перехода между солнечными циклами, в частности с обрядом колядования с его обязательностью вопросов-ответов. Как правило, диалогические колядные песни, сопровождавшие праздничные обходы домов, начинаются (вслед за обращением) с вопроса словами «зачем», «пошто» или, как в нашем случае, «где был(а)?» Он открывает диалог, инициируя серию вопросо-ответов. Исследователь зимней календарной поэзии Л. Н. Виноградова, называя эти вопросы одними из наиболее устойчивых, соотносит их с идеей «прихода издалека»: «Обязательность ритуальных вопросов-ответов перед впуском вредоносной силы была характерна для многих обрядовых практик» [1: 179].
Одними из главных участников обряда колядования А. Ф. Некрылова называет детей, утверждая, что колядки «изначально предназначались для исполнения маленькими, юными членами общины» [5: 56–58]. Большую подборку текстов детских колядок, записанных главным образом во второй половине XIX века, содержит антология «Детский поэтический фольклор»6. Некоторые из них текстуально совпадают с исследуемой прибауткой.
«Коляда, коляда, каракуля-коляда, где ты была?» – «За воротами». – «Где вороты-то?» – «Сурой (название реки. – С. Л .) снесло». – «Где Сура-то?» – «Быки выпили». – «Где быки-то?» – «В тростник ушли». – «Где тростник-то?» – «Девки выломали». – «Где девки-то?» – «За мужья ушли». – «Где их мужья-то?» – «Все померли». – «Где их могилки?» – «Травой заросли». – «Где трава-то?» – «Гуси выщипали». – «Где гуси-то?» – «Улетели за горы, за долы, за темные за леса, за высоки дерева» (№ 816).
Из древнего ритуала колядования текст перешел в игру-шествие «с козой». Ряженье «в козу» – одно из многих святочных детско-молодежных ряжений. Его подробно описал П. В. Шейн, приведший девять белорусских песен, сопровождающих ряженье «в козу»7. Перейдя исключительно в детскую среду, обрядовое «шествие с козой» утратило комплекс магически-мифологических значений, обрядовую семантику ряженья, превратилось в игру-развлечение, праздничную бутафорию. Автор книги «Дотеатрально-игровой язык русского фольклора» Лариса Ивлева называет такую динамику десемантизацией обряда [2: 48–49]. Эту проблему подробно рассматривает Б. Н. Путилов в вышеназванной книге, говоря о соотношении ритуального и мифологического начал в разных жанрах.
«Собственно фольклорные тексты составляют особую группу в мифологии, заключая в себе либо прямые мифологические реминисценции, своеобразные “фрагменты” мифологической системы, либо разного рода следы, переработки, перекодировки и пр. Историю фольклора можно представить как процесс все большего отчуждения от мифологической системы и многократной трансформации и пересемантизации ее фонда при сохранении исходных связей с нею» [6: 148].
Этот процесс трансформации и пересеманти-зации отражают перекодированные «исходные» элементы, атрибуты, детали, устойчивые реминисценции мифологической модели мира в виде вопросов «где вода?», «где гора?» и т. д. Произошла формулизация этнографического материала. Он воплотился исключительно в вопросы-формулы. А текст прибаутки прошел длительный путь трансформаций, перекодировок этнографических субстратов. В итоге рассматриваемый нами текст – словесная игровая цепь, вопросо-ответы которой – стабильные фразеологические единства, односложные конструкции-константы, которые можно определить как типические места, традиционные формулы. Их количество в разных вариантах колеблется от 16 до 6. Так, в 60 рассмотренных вариантах вопрос «где вода?» задан 53 раза, «где быки?» – 45, «где черви?» – 35, «где мужья?» – 35, «где гора?» – 33, «где лес/ тростник?» – 32, «где гуси?» – 31, «где конь?» – 21, остальные от 8 до 6 раз. Как видим, количество вопросо-ответов в прибаутке может быть больше и меньше, от этого ничего не меняется, ничто не зависит, только протяженность игры. Никакой каузальности вопросо-ответы в себе не несут. И их последовательность в разных вариантах произвольна. Вопросо-ответы – игровые звенья, которые значимы уже не семантикой, логикой и смыслом, а своей игровой сущностью. Это игра предметами, явлениями, существами, а в конечном итоге – словом.
Игровую функцию обнаруживает уже самое начало прибаутки. Оно содержит обращение. Объектом обращения может быть не только коза, но разные животные, люди и вообще непонятные существа, имена или названия которых основа- ны на словотворчестве. А вопросо-ответы те же. И это еще одно доказательство того, что новая игра словами утратила связь со стоявшим у ее истоков обрядовым шествием с козой, оторвалась от него и стала существовать другой, игровой жизнью. Выделены три группы обращений в этой игре-прибаутке:
-
1) животные: «кисонька-мурысонька, где была?», «лисонька-лиса…», «боба (заяц), ты боба…», «ласынька, ласынька, дзе была?»;
-
2) люди: «бабушка, Варварушка, где ты была?», «Ярема, Ярема, где ты был?», «Дарьюшка, ой Марьюшка, где ты была?…», «бубин ты бубин (плохой человек)»;
-
3) нечто фантастическое – «Каракуля, Ма-ракуля, где была?», «Микука, Микука…», «Нишни, нишни…».
И это далеко не все объекты обращений, после которых в разной последовательности следует серия одинаковых вопросов-ответов. Совершенно очевидно, что каждый, к кому они обращены, не имеет никакого отношения ни к происходящему, ни к называемым предметам. Они не герои и не персонажи, с которыми что-либо связано. Они участники игрового действа, которое держится не чем иным, как ритмически организованным словом. И эта игровая природа свойственна и финалам прибаутки.
Как видим, ни война, ни гибель людей в цитируемых текстах не сопряжены с трагедией, горем, несчастьем. И настроение не меняется, как будто ничего драматического не произошло. Напротив, после известия о смерти может случиться что-то веселое и несуразное. Заложенное в структуре песни-загадки игровое начало, обусловленное кумулятивной формой, в основе которой принцип ритма, сделало текст настолько продуктивным, что из детской обрядовой игры он был выбран (отобран) взрослыми для забавы тех, кто еще не владеет словом, а осваивает его. И это один из путей того отбора, который, учитывая особенности детского восприятия, совершала народная педагогика, формируя фольклорный фонд для развлечения, игры с самыми маленькими. Из одной детской среды функционирования, когда дети сами исполнители (кстати, это не означает прекращения и параллельного бытования), десемантизирован-ный текст перешел с помощью взрослых в другую детскую среду. Из детского фольклора – в детский, но в ином бытовании и жанровом качестве.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование этнографической реальности детской поэтической классики позволяет заглянуть в тайну рождения фольклорного текста, который благодаря стабильной структуре (вопро-со-ответы, кумулятивность), являющейся предпосылкой игровой формы, из плоскости практической перешел в плоскость эстетическую, стал языком продолжающей бытовать материнской поэзии. И это еще одно подтверждение актуализации идей Б. Н. Путилова.
Список литературы О происхождении некоторых стабильных структур в детском фольклоре
- Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: генезис и типология колядования. М., 1982. 256 с.
- Ивлева Л. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. 193 с.
- Лойтер С. М. Русский детский фольклор и детская мифология: Исследование и тексты. Петрозаводск: КГПУ, 2001. 295 с.
- Лойтер С. М. Из воспоминаний о Б. Н. Путилове. К 100-летию со дня рождения // Живая старина. 2019. № 3 (108). С. 47-54.
- Некрылова А. Ф. О вторичности детского календарного фольклора // Мир детства и традиционная культура: Материалы Третьих чтений памяти Г. С. Виноградов. М., 1990. С. 56-58.
- Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. In memoriam. СПб.: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), 2003. 457 с.
- Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976. 325 с.
- Топоров В. Н. О "драматическом" начале и формах его выражения в архаических текстах // Проблемы поэтики языка и литературы: Памяти Я. И. Гина. Петрозаводск, 1996. С. 10-15.
- Топоров В. Н. Несколько соображений о становлении языково-поэтических "начал" // Материалы международного конгресса "100 лет Р. О. Якобсону". М., 1996. С. 124-127.
- Твардовский А. Т. О поэзии Маршака // Маршак С. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Худож. лит., 1970. Т. 5. С. 593-628.