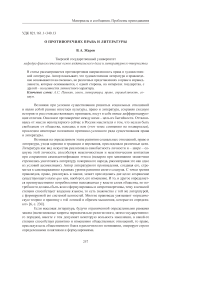О противоречиях права и литературы
Автор: Жаров Владимир Алексеевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается противоречивая направленность права и художественной литературы. Автор показывает, что художественная литература и правоведение основываются на смежных, но различных представлениях о праве и справедливости, которые основываются, с одной стороны, на интересах государства, с другой – на ценностях личностного характера.
А. с. пушкин, закон, литература, право, справедливость, социум
Короткий адрес: https://sciup.org/146121901
IDR: 146121901 | УДК: 821.161.1+340.13
Текст научной статьи О противоречиях права и литературы
Возникая при условии существования развитых социальных отношений и являя собой разные ипостаси культуры, право и литература, сохраняя сходную историю и ряд отождествляющих признаков, несут в себе явные дифференцирующие отличия. Основное противоречие между ними – цель их бытийности. Отталкиваясь от мысли непопулярного сейчас в России мыслителя о том, что нельзя быть свободным от общества, находясь в нем (этот тезис сомнению не подвергался), проследим некоторые положения причинно-условного ряда существования права и литературы.
Возникая на определенном этапе развития социальных отношений, право и литература, уходя корнями в традиции и верования, преследовали различные цели. Литература как вид искусства реализовала самобытность личности и – шире – социума этой личности, способствуя межличностным и межэтническим контактам при сохранении самоидентификации этноса (недаром при завоевании захватчики стремились уничтожать литературу покоренного народа, рассматривая это как одно из условий ассимиляции). Автор литературного произведения, создавая его, стремится к самовыражению в рамках уровня развития своего социума. С точки зрения правоведов, право, реализуясь в законе, может преследовать две цели: сохранение существующего s tatus quo или, наоборот, его изменение. И то, и другое определяется преимущественно потребностями находящихся у власти слоев общества, но потребности должны быть ясно сформулированы и непротиворечивы, чему в немалой степени способствует владение языком, то есть знакомство с той же литературой, с формируемой ею системой ценностей. Многие правоведы увязывают «юридическую теорию и практику с той логикой и образом мышления, которые их определяют» [6, с. 230].
Если массовая литература, будучи ограниченной определенными рамками закона (всевозможные запреты первоначально религиозного, затем государственного порядка), вместе с тем допускает некоторую вольность мышления, в какой-то степени способствуя развитию и изменению общественных отношений, то право, преследуя цель общественного блага в различном его понимании, оперирует строго определенными понятиями и формулировками.
Помимо расхождения в сентенциях и формулировках, между правом и литературой существует разительное расхождение на лексико-семантическом уровне. Автор сюжетного художественного произведения не сможет обойти понятия «справедливость», «правда», «совесть» и иные явления того же ряда, пусть и не называя их непосредственно. Стремление к положительному началу – в том числе к положительным образам героев литературного произведения – является одним из условий признания писателя как такового. Вряд ли кто, кроме литературоведов, может назвать авторов, безусловно поднимающих на щит порок, и в этом случае законы рынка, опираясь на общечеловеческие ценности, способствуют популярности одних писателей и забвению других. Возникает закономерный вопрос: почему у народов нашей планеты во многом сходные понятия о добре и зле? Очевидно, в поисках ответа на этот вопрос не обойтись без положений социального дарвинизма. Если исходить из тезиса, что сохранились до нашего времени в условиях жесткой борьбы за существование наиболее приспособленные социумы, то представляется естественным вывод, что критерии приспособляемости во многом схожи. И – как ни парадоксально это прозвучит – они носят названия тех понятий, без которых литературное произведение не будет популярным: совесть, справедливость, правда и т. п. Данные качества мало способствуют успешности отдельного индивида в социуме, в отношениях с себе подобными, но тогда почему они не исчезли за многовековую историю человечества? Трудно подобрать иной ответ, кроме напрашивающегося: эти качества необходимы социально, то есть они являются условием выживания социума, пусть и в ущерб индивиду; они являются теми внутренними скрепами, которые позволяют определить социальное начало в группе людей, и их отсутствие приводит к самораспаду данной группы или к распаду под воздействием каких-либо внешних причин. Генетическая память членов выживших социумов хранит эти начала как основополагающие, как первостепенные, как базис самосохранения, и, очевидно, именно поэтому их отрицание в литературе приводит к непопулярности автора – и наоборот. Отметим, что качества эти проявляются при угрозе социуму или микросоциуму, – то же самое самопожертвование, гибельное для индивида и спасительное для других, возможно только при реальной внешней опасности.
Реализованное в законе право относится к несколько отличной от вышеуказанной системе ценностей: оно носит явно выраженную регулятивную функцию и определяет систему ценностей внутри социума при отсутствии угрозы существования данному социуму. Вряд ли кто будет искать новые формы регулирования общественных отношений при угрозе существованию государства, – недаром при внешней явной угрозе существованию социума и государства отменяются многие законы. В данном случае условием реализации права является относительно безопасное существование социума, при этом отступают на второй план условия выживания социума и возникает по волеизъявлению его определенной части потребность в регулировании внутриобщественных отношений. На первое место при этом ставятся интересы определенных страт социума при ущемлении интересов других страт. Б. Н. Чичерин исходил из положения, что «справедливым считается то, что одинаково прилагается ко всем» [8, с. 88]. Но тогда понятия «справедливость», «совесть» и иные из того же ряда будут находиться в противоречии с интересами привилегированных слоев. К чему это приводит? В современной справочно-юридической литературе, в подавляющем большинстве юридических словарей, энциклопедий и справочников упомянутые выше понятия отсутствуют (например: Большая юридическая энциклопедия. М. : ЭКСМО, 2005; Юридический энциклопедический словарь. М. : Велби : Проспект, 2006; Большой юридический энциклопедический словарь. М. : Книжный мир, 2006; Законодательные дефиниции : энциклопедический словарь. М. : Норма : ИНФА-М, 2013; и др.). В немногих словарях данные понятия отмечается опосредованно, как, например, в «Большом юридическом словаре» под редакцией А. Я. Сухарева, где упоминается «принцип справедливости» [1, с. 713]. Иными словами, право предпочитает обходиться без указанных понятий, хотя сложно сформулировать мысль без четких дефиниций. Сложившаяся ситуация привела к тому, что фраза «Приговор законен, но несправедлив» стала знакомой очень многим, а положение «…законодатели обязаны соотносить свою деятельность с морально-нравственными устоями общества, ориентируясь на выработанные веками ценности: добро и зло, честь и достоинство, а главное – справедливость» [2, с. 39] относится к разряду благих пожеланий.
Сюжетная литература очень часто использует конфликт, основанный на столкновении закона и справедливости, и позиция автора произведения обычно предопределена заранее. Робин Гуд, Вильгельм Телль и многие им подобные являются преступниками, попирающими закон, но эти герои, как и произведения в целом, принимаются читателями и пользуются у них популярностью не в последнюю очередь потому, что закон в конечном итоге уступает справедливости, которую защищают и восстанавливают упомянутые герои. А. С. Пушкин в романе «Дубровский» также использует сюжет о «благородном разбойнике» – немыслимое для права сочетание, своего рода оксюморон. Младший Дубровский – Владимир – встает на путь беззакония из-за… закона: решение суда явно соответствует правовым нормам того времени, но и герой, и читатель не принимают этого решения – как несправедливого, как антисоциального. Можно сослаться на мнение В. С. Соловьева, который в трактате «Оправдание добра» разводил понятия справедливость и право : «Понятие справедливости выражает чисто нравственное требование и, следовательно, принадлежит к области этической, тогда как правом определяется особая область отношений – юридических» [7, с. 440].
Показательно, что Пушкин целиком приводит определение (решение) уездного суда, «полагая, что всякому приятно будет увидеть один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право» [4, с. 132]. И способ этот, оказывается, вполне законен: узнав, что бумаги на владение Кистеневкой сгорели, заседатель Шабашкин подобострастно советует Троекурову: «…в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие» [Там же, с. 131]. Горькая ирония Пушкина – «всякому приятно будет увидеть…» – превращается в сарказм, когда он приводит слова Спицына, обращенные к Троекурову: «Не я ли в удовольствие ваше, т.е. по совести и справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему» [Там же, с. 157].
Не менее показательна и позиция народа: крепостные Кистеневки – род движимого имущества по законодательству того времени – готовы идти за своим прежним барином, не принимая тем самым решения суда: «Отец наш, кормилец, – отвечали люди, – умрем, не оставим тебя, идем с тобою» [Там же, с. 150]. Крестьяне воспринимают это решение как угрозу своему миру, своему социуму, и на первое место ставится цель именно его выживания, сохранения. В данном случае конфликт между двумя субъектами права, между двумя помещиками, регулируемый и разрешенный буквой закона, привел к конфликту более высокого уровня, связанному с сохранением данного социума, и крестьяне поступили так, как подсказывала им генетическая память, и при этом вряд ли особо беспокоились о соответствии своего поведения норме закона. Более того, крестьяне Кистеневки в сцене с приказными отодвигают на второе место судебное решение, во главу угла ставя неправовое понятие свести: «Переговори, батюшка, – закричали ему из толпы – да усовести окаянных» [Там же, с. 146]. Л. И. Петражицкий в труде «Теория права и государства в связи с теорией нравственности» рассматривает эту ситуацию так: «…люди фактически приписывают на каждом шагу себе или другим разные обязанности правового типа и права и исполняют эти обязанности и осуществляют права вовсе не потому, что так написано в гражданском кодексе или т. п., а потому, что так подсказывает им их интуитивно-правовая совесть; да они обыкновенно и не знают вовсе, что на подлежащий случай жизни предписывают статьи гражданского или иного кодекса, и даже не думают о существовании этих статей и кодексов» [3, с. 117]. Ни Дубровский, ни идущие за ним крестьяне не мучаются вопросом, вправе ли они так поступать: с их точки зрения, действиями судейских нарушено нечто большее, чем закон, – нарушена справедливость, а «источник права есть присущее человеку чувство справедливости» [5, с. 497]. В этом случае налицо фатальное противоречие: формально отсутствующая в праве данность является обоснованием права.
Таким образом, нельзя не сделать неутешительный для общества – в том числе современного – вывод: как «ум с сердцем не в ладу», так литература (отнесем сюда и публицистику) и право не могут прийти к единому знаменателю и зачастую рассматривают одно и то же деяние с разных, зачастую непримиримых позиций, используя различный понятийный аппарат. И хотя литература внешне менее значима по сравнению с правом (на стороне закона государственный аппарат принуждения), она восходит к более древним, более социально направленным факторам, имеющим несравненно более высокую общественную ценность. А потому вопрос, неоднократно поднимаемый в последнее время на разных уровнях: «Как жить: по совести (варианты: по правде, по понятиям и т. п.) или по закону?» – по-прежнему не теряет своей актуальности, будучи по-разному решаем в стенах судов и на страницах книг.
Список литературы О противоречиях права и литературы
- Большой юридический словарь/под ред. А. Я. Сухарева. М.: ИНФРА-М, 2006. 856 с.
- Модернизация социально-экономической сферы в современной России: проблемы и суждения: монография/под ред. Н. В. Филиновой, А. Н. Сухарева, И. А. Толстовой. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2016. 188 с.
- Петражицкий Л. И. Теория права и государства связи с теорией нравственности. М.: Росспэн, 2010. 798 с.
- Пушкин А. С. Сочинения: в 3 т. Т. 3: Проза. М.: Худож. лит., 1987. 528 с.
- Розанов В. В. Собрание сочинений. М.: Танаис. 1995. 472 с.
- Рулан Н. Юридическая антропология. М.: Норма, 2000. 310 с.
- Соловьев В. С. Оправдание добра. М.: Ин-т рус. цивилизации: Алгоритм, 2012. 656 с.
- Чичерин Б. Н. Философия права. СПб.: Наука, 1998. 656 с.