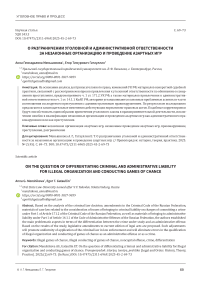О разграничении уголовной и административной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр
Автор: Меньшикова А.Г., Гатауллин Е.Т.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 2 (45), 2025 года.
Бесплатный доступ
На основании анализа доктрины уголовного права, изменений УК РФ, материалов конкретной судебной практики, связанной с рассмотрением вопросов привлечения к уголовной ответственности по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, а также материалов привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ, авторами устанавливаются основные проблемные аспекты в части соотношения исследуемого преступления с административным правонарушением. По результатам исследования предлагаются законодательные изменения действующих нормативно-правовых актов. Подобные корректировки будут способствовать единообразию применения уголовного закона в правоприменительной деятельности, исключению ошибок в квалификации незаконных организации и проведения азартных игр как административного правонарушения или как преступления.
Незаконная организация азартных игр, незаконное проведение азартных игр, правонарушение, преступление, разграничение
Короткий адрес: https://sciup.org/14133315
IDR: 14133315 | УДК: 343.3 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-45-2-69-73
Текст научной статьи О разграничении уголовной и административной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр
Незаконная игорная деятельность представляет из себя серьезную проблему, с которой сталкиваются все государства земного шара. Этот тип незаконной экономической деятельности не только представляет потенциальные угрозы для общественной безопасности, но также нарушает моральные принципы общества и противоречит общественным и государственным интересам в целом, поскольку экономика является одним из основополагающих секторов жизнедеятельности и в значительной степени влияет на социальную, политическую и экономическую стабильности. В современном мире незаконная игорная деятельность была подвергнута влиянию технологий, цифровизации и сети «интернет», что поспособствовало, бесспорно, еще большему ее распространению. Виновные лица совершенно спокойно могут реализовать свой преступный умысел, обходя закон, оказывать вредное воздействие на общество и государство, и становиться более неуловимыми для правоохранительных органов.
Бесспорно, такое положение вещей не могло не отразиться и на состоянии преступности в Российской Федерации. Официальная статистика применительно к общему количеству совершаемых преступлений, предусмотренных именно ст. 171․2 УК РФ, Министерством внутренних дел Российской Федерации в настоящий момент не ведется. Однако, показательно, что применительно к аналитике сведений о преступлениях, совершенных с использованием информационнотелекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, отдельно ведется статистика по незаконной организации и проведению азартных игр подобным способом.
Так, согласно официальной статистике в январе — декабре 2023 года было зарегистрировано 580 преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации1, в январе — декабре 2024 года — 368 аналогичных преступлений2, а в январе 2025 года уже 33 преступления3․ К сожалению, эти сведения лишь частично отражают объективные данные по совершению анализируемого преступления, поскольку согласно данным Агентства правовой информации «Судебная статистика РФ» количество обвинительных приговоров гораздо больше, так, только в 2023 году было вынесено 1267 обвинительных приговоров в совершении преступления, предусмотренного ст. 171․2 УК РФ4․ Как показывает судебная статистика, количество обвинительных приговоров только увеличивается с каждым годом — в период с 2016 по 2022 гг. общее число приговоров по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр составило около 7900, и динамика в период с 2020 по 2023 гг. (2020 г․ — 762, 2021 г․ — 946, 2022 г․ — 1164, 2023 г․ — 1267) свидетельствует об увеличительной прогрессии количества совершения данного преступления5, что, бесспорно, свидетельствует о важности уделения особого внимания вопросам уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр․
Материал и методы
В статье использованы нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы уголовно-правового регулирования ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр, материалы конкретной судебной практики, специальная литература по предмету исследования․ В качестве основных методов используются формально-логический метод, методы аналогии и обобщения, а также сравнительно-правовой и формально-юридический методы исследования․
Описание исследования
Изначально уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр была введена в 2011 году и до настоящего времени прошла в своей трансформации несколько этапов․ Первый этап был связан с исключением такого криминообразующего признака, как «извлечение дохода в крупном размере» из основного состава преступления в 2014 г․ Федеральным законом № 430-ФЗ от 22․12․2014 г․ Такие законодательные изменения были приняты главным образом в связи с тем, что на практике стали возникать проблемы квалификации данного неоконченного преступления․ Так, например, «В․ обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч․ 3 ст․ 30 и ч․ 1 ст․ 171․2 УК РФ — покушение на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере․ Действия В․ заключались в аренде соответствующего помещения и установке в нем игровых автоматов во исполнение своего преступного умысла на незаконные организацию и проведение азартных игр․ По мнению обвинения, если бы сотрудниками полиции не была пресечена деятельность данного заведения, то В․ извлек бы доход в крупном размере․ Однако В․ не смог реализовать свой преступный умысел по независящим от последнего обстоятельствам․ Суд указал, что обвинительный приговор и квалификация не могут строиться на предположении того, что В․ мог бы в будущем извлечь доход в крупном размере, однако ему не удалось реализовать преступный умысел по независящим от него обстоятельствам, так же обвинение не предоставило доказательств, прямо доказывающих умысел В․ на извлечение дохода в крупном размере, тем самым оставив оправдательный приговор первой инстанции в силе за отсутствием в действиях В․ состава преступления»1․ Признак «извлечение дохода в крупном размере» с учетом изменений 2014 г․ стал учитываться в качестве квалифицирующего признака, что, бесспорно, с одной стороны, не способствовало решению указанной выше проблемы в полном объеме, но в определенной степени облегчило работу правоприменителей в привлечении к уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр․ При этом следует отметить, что тем же самым Федеральным законом № 430-ФЗ от 22․12․2014 г․ были внесены изменения и в статью 14․1․1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые в совокупности с изменениями ст․ 171․2 УК РФ привели к стиранию грани между административной и уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр․
Следующим этапом в развитии уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст․ 171․1 УК РФ, стал 2016 г․, когда Федеральным законом № 325-ФЗ от 03․07․2016 г․ законодатель дополнил ее описание самостоятельным примечанием, определяющим крупный и особо крупный размер дохода в качестве квалифицированных составов преступления․ Кардинальных изменений в понимании составообразующих признаков анализируемого преступления указанные нововведения не привнесли․ На наш взгляд, данные корректировки лишь привели в соответствие законодательную технику в формировании и формулировании уголовно-правовых норм об ответственности за экономические преступления․ Незаконная организация и проведение азартных игр находится в главе «Преступления в сфере экономической деятельности», а данным преступлениям свойственен законодательный подход в закреплении крупного и особо крупного размера дохода в качестве характеризующих признаков данных преступлений, а также в определении его размеров индивидуально в рамках самостоятельных примечаний․
И наконец, заключительный этап в становлении действующей на настоящей момент уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст․ 171․2 УК РФ, приходится на 2018 г․ Федеральный закон № 227-ФЗ от 29․07․2018 г․ дополнил диспозицию еще одним альтернативным деянием — систематическим предоставлением помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр, раскрыв параллельно его содержание в примечании к ней․ Данные изменения расширили перечень общественно-опасных деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность при незаконной организации и проведении азартных игр․ Включение альтернативного поведения, которое не относится к административному правонарушению, бесспорно, помогает в разграничении уголовной и административной ответственности в этой части, однако сохранение дублирующего в КоАПе РФ и УК РФ деяния в виде «организации и (или) проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», или средств связи, в том числе подвижной связи, за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах» не снимает указанной проблемы․
Соответственно на протяжении уже более десяти лет существует своего рода коллизия между нормами уголовного и административного законодательства, когда законодатель описал абсолютно идентичное поведение, подпадающее под различные виды ответственно-сти․ и, как справедливо отмечается в науке уголовного права, «явилось грубейшей законодательной ошибкой, фактически не позволяющей разграничить эти виды общественно опасных деяний» [1]․
В науке уголовного права встречается мнение, что разграничивать в таких случаях необходимо главным образом по признакам объективной стороны [4, с․ 50]․ Такое утверждение представляется верным, но только тогда, когда незаконные организация и проведение азартных игр осуществляется в виде систематического предоставления помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр․ Гораздо сложней обстоит ситуация, когда противоправное поведение проявляется, например, в виде организации и (или) проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны․ В правоприменительной практике такие действия квалифицируются и как административное правонарушение, и как преступление․ Так, приговором Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан «Х․ был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч․ 1 ст․ 171․2 УК РФ за «незаконные организация и проведение азартных игр, то есть организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» и средств связи»2․ Аналогичное решение усматривается и в приговоре Октябрьского районного суда г․ Иркутска, согласно которому Ш․ был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч․ 1 ст․ 171․2 УК РФ за «организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны»1․ Но при этом в судебной практике встречаются решения по привлечению за аналогичные деяния и к административной ответственности․ Так, постановлением об административном правонарушении судьей Фурмановского городского суда Ивановской области постановил признать «ООО «С․» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч․ 1 ст․ 14․1․1 КоАП РФ, за организацию проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством игрового оборудования АПК «Терминал БТ» (1 терминала), вне игровой зоны»2․ Похожее решение усматривается в постановлении судьи Пограничного районного суда Приморского края, согласно которому «ООО «В․» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст․ 14․1․1 ч․ 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконные организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны»3․
На основе анализа даже такой немногочисленной практики можно заключить, что суды разграничивают данные деяния исключительно по признакам лица, совершившего противоправные деяния․ В силу прямого указания в санкции ч․ 1 ст․ 14․1․1 КоАП РФ на юридическое лицо, к административной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр привлекают только их, а в тех случаях, когда аналогичное деяние совершено физическим лицом, то речь идет уже о привлечении к уголовной ответственности․ На такой критерий разграничения уголовной и административной ответственности также указывается и в науке уголовного права [5]․ Административное законодательство признает институт ответственности юридических лиц в отличие от уголовного законодательства, согласно ст․ 19 УК РФ к уголовной ответственности привлекается только физическое лицо, но руководствуясь только этим положением, нецелесообразно разделять правонарушение и преступление, в основе разграничения различных по тяжести видов юридической ответственности не может быть заложена только характеристика субъектов совершаемых противоправных деяний․
В научной литературе содержатся также попытки предложить разграничивать незаконные организацию и проведение азартных игр как правонарушение от преступления по объекту противоправного посягательства, так А․ В․ Паршина подчеркивает, что некоторые ученые видят критерий разграничения данных составов в объекте [3, с․ 541]․ Но такой критерий также не вносит ясности, тем более не несет в себе практического применения․ Не вдаваясь в существующую в доктрине полемику относительно месторасположения ст․ 171․2 УК РФ в структуре уголовного закона, приходится констатировать, что на сегодняшний момент объектом выступают общественные отношения в сфере экономической (предпринимательской) деятельности и установленный законом, а также другими нормативными правовыми актами порядок осуществления такой деятельности․
Представляется, что невозможно с учетом действующего как уголовного, так и административного законодательства сформулировать четкие критерии разграничения состава преступления, предусмотренного ч․ 1 ст․ 171․2 УК РФ, с административным правонарушением ч․ 1 ст․ 14․1․1 КоАП РФ․ Нецелесообразно формулировать идентичным образом противоправные деяния, располагая их в различных нормативно-правовых актах, устанавливающих различную по степени ответственность․
Проблеме разграничения административного правонарушения и преступления уделяли и продолжают уделять внимание многие ученые, споры об определении и формулировании таких критериев не утихают и по сей день․ Подавляющее большинство сходятся во мнении, что именно общественная опасность содеянного является тем существенным признаком, позволяющим проводить грань между административной и уголовной ответственностью при квалификации поведения виновного․ Справедливо отмечает Н․ Г․ Иванов, что«практически во всех российских учебниках и на страницах учебной литературы преступление связывается с наличием общественной опасности» [2, с․ 37]․ Что считать проявлениями этой общественной опасности преступления, изложенной законодателем в конкретной уголовно-правовой норме? Применительно к нашему вопросу можно заключить, что в отдельных случаях критериями разграничения схожих с преступлениями административных правонарушений служить указание законодателя на причинённый ущерб или его размер․ Так, например, мелкое хищение, предусмотренное ч․ 1 ст․ 7․27 КоАП РФ, отличается от уголовно-наказуемого хищения по ч․ 1 ст․ 158 УК РФ именно размером ущерба․ В других случаях, законодатель включает в описание преступления характеристики, увеличивающие степень общественной опасности со-деянного․ В состав уголовно-наказуемого хулиганства, предусмотренного ч․ 1 ст․ 213 УК РФ, законодатель в отличие от мелкого хулиганства (ч․ 1 ст․ 20․1 КоАП РФ) добавляет такие его характеристики, как «грубое нарушение общественного порядка» вкупе с дополнительным способом или местом совершения преступления․ А иногда законодатель наличие уголовной ответственности ставит в зависимость от процессуального основания привлечения к ответственности, например, нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ч․ 1 ст․ 116․1 УК РФ)․
В любом случае, деяния, подпадающие под действие различных нормативно-правовых актов как противоправные, не должны идентичным образом быть описаны в законах․ И ставить различие по видам привлекаемой ответственности только в зависимость от характеристики субъекта представляется недопустимым․ Соответственно, незаконные организация и проведение азартных игр, предусмотренные ч․ 1 ст․ 14․1․1 КоАП РФ, и незаконные организация и проведение азартных игр, предусмотренные ч․ 1 ст․ 171․2 УК РФ, требуют законодательных корректировок․
Заключение и выводы
В целях единообразного применения уголовного закона, исключения правоприменительных ошибок в квалификации незаконных организации и проведения азартных игр как административного правонарушения или как преступления требуется внести изменения в действующие нормы, предусматривающие ответственность за подобного рода поведение․ Представляется целесообразным дополнить ч․ 1 ст․ 171․2 УК РФ дополнительными характеристиками, увеличивающими степень общественной опасности данного преступления, с одновременным внесением изменений в ч․ 1 ст․ 14․1․1 КоАП РФ, точно и четко закрепляющими положение о привлечении к административной ответственности как юридических, так и физических лиц․ Что, бесспорно, будет способствовать правильному применению норм закона сотрудниками правоохранительных органов, в том числе для уверенного разграничения уголовно-правовых и административных норм, что поможет избегать трудностей и ошибок в правоприменительной деятельности․