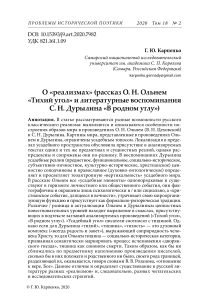О "реализмах" (рассказ О. Н. Ольнем "Тихий угол" и литературные воспоминания С. Н. Дурылина "В родном углу")
Автор: Карпенко Геннадий Юрьевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются разные возможности русского классического реализма: выявляются и описываются особенности построения образов мира в произведениях О. Н. Ольнем (В. Н. Цеховской) и С. Н. Дурылина. Картины мира, представленные в произведениях Ольнем и Дурылина, ограничены усадебным топосом. Локализация в пределах усадебного пространства обусловила присутствие в анализируемых текстах одних и тех же предметных и сущностных реалий, однако распределены и сопряжены они по-разному. В воспоминаниях Дурылина усадебные реалии (предметное, функциональное, социально-историческое, субъективно-личностное, культурно-историческое, христианское) ценностно соподчинены и православное (духовно-онтологическое) определяет и просветляет теоантропную «вертикальность» усадебного мира. В рассказе Ольнем все «усадебные элементы» однопорядковые и существуют в горизонте личностного или общественного события, они фактографичны и окрашены лишь психологически и / или социально, а «христианское событие, длящееся в вечности», утрачивает свою мироорганизующую функцию и присутствует как формально-риторическая традиция. Различие / разница в актуализации Ольнем и Дурылиным ценностных повествовательных уровней находит выражение в смыслах, присутствующих в подтексте заглавий анализируемых произведений («Тихий угол», «В родном углу»). «Усадебный угол» писатели соотносят с тишиной. Однако если для Дурылина «тихий», «тишина», «тихость» - это духовный комплекс («всегда радость и завет»), выражающий соприродность человека Христу, то для Ольнем тишина - социально-историческая категория, призванная семантически маркировать процесс исчезновения «дворянского гнезда», тишина как синоним смерти. Таким образом, как бы ни сближались по предметному наполнению произведения писателей, сколько бы в них похожего и родственного ни было, своего рода границей, разделяющей их, оказывается, говоря словами В. В. Розанова, «отношение к вере, Бог». Данное отличие и определяет существование в русской литературе разных «реализмов» и, следовательно, разных читательских и исследовательских стратегий.
О. н. ольнем, с. н. дурылин, реализм эмпирический и христианский, картина мира, горизонт события, иерархия ценностей, empirical and сhristian realism
Короткий адрес: https://sciup.org/147227208
IDR: 147227208 | УДК: 821.161.1.09 | DOI: 10.15393/j9.art.2020.7982
Текст научной статьи О "реализмах" (рассказ О. Н. Ольнем "Тихий угол" и литературные воспоминания С. Н. Дурылина "В родном углу")
В1970–1990-е гг. В. М. Маркович, разрабатывая концепцию русского реализма, отмечал, что уже на раннем этапе его развития складываются две формы: реализм «эмпирический» и собственно классический [Маркович: 113–134]. Для «эмпирического» реализма характерно представление героя не столько в индивидуально-конкретном, сколько в типическом виде. «Эмпирический» реализм особенно проявился в произведениях писателей «натуральной школы» (В. Даля, Д. Григоровича, Е. Гребенки, И. Панаева и др.), творивших в русле бытописательной прозы с ее пристальным вниманием к обыкновенному, социально обездоленному «маленькому» человеку и работавших в жанре «физиологического очерка». Эти авторы создавали социально обобщенный портрет героя, подавали его как тип, рисовали его судьбу как неизбежно «повторяющуюся» во всех представителях класса, к которому он принадлежал [Маркович: 113–120].
Другой — классический — реализм, по словам В. М. Марковича, преследует задачи выйти за рамки эмпирического: «…осваивая фактическую реальность общественной и частной жизни людей, постигая в полной мере ее социальную и психологическую детерминированность, классический русский реализм едва ли не с такой же силой устремляется за пределы этой реальности к “последним” сущностям общества, истории, человека, вселенной <…>. …общественная жизнь, история, метания человеческой души получают тогда трансцендентный смысл, начинают соотноситься с такими категориями, как вечность, высшая справедливость, провиденциальная миссия России, конец света, Страшный суд, царство Божие на земле» [Маркович: 131].
Однако уже в «физиологическом очерке» (в произведениях «эмпирического» реализма), на что не обращали внимания исследователи, авторская активность находит свое выражение не только в приемах социально ориентированной типизации, но и духовно-гуманистической, по истоку своему религиозной, христианской. Писатель производит отбор привлекшего его внимание предмета изображения, актуализирует некоторые важные душевные свойства героя и моменты его нравственного пребывания в мире в соответствии с «предзаданной» шкалой христианских ценностей (см.: [Карпенко: 151–160]).
Так, Д. В. Григорович в рассказе «Петербургские шарманщики» выбирает из представителей социального низа в качестве предмета изображения шарманщика именно как достойного человека, хотя «из всех ремесел, из всех возможных способов, употребляемых народом для добывания хлеба, самое жалкое, самое неопределенное есть ремесло шарман-щика»1. Как замечает писатель, для людей социального низа существуют более выгодные, более прибыльные занятия: можно торговать-плутовать или попрошайничать, — и тогда вернешься «домой с доброю краюхой хлеба, достаточной величины, чтобы накормить двух-трех пострелят мужеского или женского пола»2. Но шарманщик сознательно определяет себе менее доходный промысел, потому что он понимает, «что добывать хлеб подаянием или плутовством бесчестно <…>. Вникнув хорошенько в нравственную сторону этого человека, находишь, что под грубою его оболочкою скрывается очень часто доброе начало — совесть»3.
Понятие «совесть» «маркирует» шарманщика как человека «подобного»: сотворенного, как и все, по образу и подобию Божиему. В свете данного понятия читатели призваны увидеть в нем уже не социальный (чуждый ему), а духовно-нравственный тип. В шарманщике, помимо социально «чужого» и отталкивающего, есть человечески близкое, роднящее его с другими, — совесть. Д. В. Григорович таким способом намечает иную типизацию, уже не социологическую, а религиозно-художественную
(если учесть евангельскую семантику этого слова: совесть — со-весть — весть — благая весть — Евангелие4 (см: [Черных: 184], [Прохоров: 8–28])).
Безусловно, такое понимание русского реализма — видение и концептуализация в изображаемом «следов религиозного» — обозначило уже в советский период выход литературоведческой мысли к «духовным горизонтам». Исследователи стали даже говорить как об очевидном о другом (не критическом) реализме [Гуревич], предлагая выразить и выражая сущность русской классики в понятии «духовный реализм» [Любомудров].
Казалось бы, чего еще желать отечественной науке в постижении сущности русского слова.
Однако, как оказалось (справедливо и обоснованно указали на это В. Н. Захаров [Захаров] и И. А. Есаулов [Есаулов, 2005, 2007b]), такому «духовному» подходу не хватало терминологической точности. И. А. Есаулов убедительно напомнил, что литературоведение — это тоже по-своему точная наука, а в духовно-антропологическом смысле — более точная наука, чем естественные [Есаулов, 1995b: 3–16]. Поэтому при осмыслении родовых основ русской классики нужно вырабатывать, предлагать и задействовать не размытые, а адекватные, отвечающие самой сути русской словесности категории [Есаулов, 2007a].
Ученый не просто указал на неполноту («не вполне удачного») понятия «духовный реализм», использование которого чревато растворением глубинного содержания русской литературы «в абстрактных сциентистских конструкциях (нечто подобное происходило даже в лучших литературоведческих работах советского времени)» [Есаулов, 2007b: 9, 20]. Совместно с В. Н. Захаровым [Захаров] он утвердил термин «христианский реализм» [Есаулов, 2007b]: в филологических трудах разработал и воплотил «христоцентричный» подход к русской словесности. Теоретические обоснования и исследовательская практика И. А. Есаулова, направленные на осмысление природы отечественной словесности, изначально были связаны с «осознанием христианского (а именно православного) подтекста русской литературы» [Есаулов, 1995a: 5, 1995b: 12]. Как показывает ученый, «евангельский христоцентризм проявляет себя <…> авторской этической и эстетической ориентацией на высший духовный и нравственный идеал, которым является Иисус Христос» [Есаулов, 2017: 542], и — более того (хотим мы того или не хотим) — он есть «культурное бессознательное» русской литературы [Есаулов, 2004: 11–20].
Вполне очевидно, что «евангельский христоцентризм» всегда особым образом и по-разному актуализируется в творчестве писателей: или сознательно как «авторская ориентация», или бессознательно как «культурный код». В этой связи важно прояснить, как доминантный тип культуры обнаруживает себя в произведениях, одинаковых по объекту изображения (в рассматриваемом случае посвященных усадьбе) и даже по предметным реалиям, но противоположных по способу их соподчинения и выстраиванию — в итоге — картин мира.
Увидеть и понять базовые различия в способах организации литературного пространства, в построении картин мира, создаваемых авторами разного «реализма», но принадлежащими к одному типу культуры, помогает сравнительный анализ конкретного литературного материала.
Для решения проблемы выявления особенностей актуализации «христианского кода» в том или ином произведении предлагается методика описания отношений человека с «предметным» окружением. Суть такой методики сводится к выяснению способов «скрепленности» человека с «предметностью»: выделяются и анализируются функциональный, социальноисторический, субъективно-личностный, культурно-исторический, христологический способы, которые, безусловно, реализуются в произведении хотя и неизолированно друг от друга, но с «усилением» той или иной «скрепы». От того, какие «скрепы» активизирует писатель, зависит и характер, наполненность реализма.
В центре рассмотрения настоящей статьи находятся произведения О. Н. Ольнем и С. Н. Дурылина. В 1902 г. в майском номере журнала «Русское богатство» был опубликован рассказ О. Н. Ольнем (писательский псевдоним В. Н. Цеховской) «Тихий угол». Об этом же времени, но несколько позже (1930–1942 гг.) писал в своих литературных воспоминаниях «В родном углу» С. Н. Дурылин5.
Картины мира в сочинениях Ольнем и Дурылина локализованы, ограничены в основном усадебным топосом. Это обстоятельство — локализация события в пределах усадебного пространства — обусловило присутствие в произведениях писателей одних и тех же предметных и культурно-исторических ценностей (в чем можно легко убедиться, если составить их список). Однако распределены и соотнесены они в произведениях Ольнем и Дурылина по-разному.
Усадебный мир, как он предстает в литературных воспоминаниях Дурылина «В родном углу», теоантропен и иерархически центрирован — христоцентричен. Такая «особенность» — живое присутствие-участие Господа в делах людей, в бытовой и в сокровенной жизни человека — определяет характер и направленность сопряжения-соподчинения «физического» (предметного) и метафизического (духовного) и в конечном счете формирует картину мира.
Иерархически центрированный принцип описания усадебного пространства проводится Дурылиным последовательно: то или иное воспоминание представляет собой синтез бытописательной точности в изображении предметного мира усадьбы и «сверхточности», которая высветляется писателем как «тихая духовность» бытия в «вещах» и в человеке.
Воссоздавая образ усадьбы, писатель вначале (на одном повествовательном уровне) подробно, с фактографической тщательностью воспроизводит предметный мир, отмечает его физические (материальные) особенности и свойства, его функциональное назначение:
«Войдем же в старый дом <…>. Парадное крыльцо открывает перед нами деревянную лестницу, покрытую ковром, прим-кнутым к ступеням медными прутьями, вводящую нас через обитую серым войлоком дверь в переднюю. Передняя невелика: в одно окно, с большим, вечно усеянным маленькими розовыми цветочками кустом терновника. Под окном — дубовый ларь, покрытый мохнатым ковром, — любимое место наших детских ожиданий и мечтаний»6.
Затем (на другом повествовательно-смысловом уровне) передается психофизиология «вещи», субъективное, личностно окрашенное ее восприятие героем:
«В простенке между окном и дверью — столик для шляп и шапок, большое зеркало в ореховой раме, а по стене светлая кленовая вешалка для верхнего платья. Зимою здесь косматился отцовский пышный енот, мягким теплом лоснился его же исчерна-желтый хорек и влекла своим уютом мамина пушистая ангорская коза. Было весело прятаться в енота и козу, но еще веселее было играть хорьковыми хвостиками: заигравшись, случалось, оторвешь, бывало, такой хвостик, испугавшись, спрячешь его в карман, а там он шерстится и щетинится, будто живой зверек» ( Дурылин : 59).
На третьем уровне описания «вещи» автор соотносит ее с культурно-историческим контекстом, показывает, как субъективные переживания «вещей» пропитываются насыщенными смыслами культуры. Так, Дурылин, представляя гостиную («В гостиной ореховая мебель, обитая малиновым атласом; портьеры малинового бархата, перед диваном — стол под бархатной скатертью, в углу — рояль» — Дурылин : 59) и упоминая рояль, скрепляет «рояльную предметность» с «домашним» и культурно-историческим содержанием:
«По утрам приходила в гостиную младшая сестра играть на рояле. Иногда ее сменял “братец Понтя” (Пантелеймон), подбиравший на рояле “по слуху”. От него я перенял марш Черномора из “Руслана и Людмилы” и песенку старичков из “Фауста”. <…> Это были первые оперные мелодии, врезавшиеся в мой детский слух. <…> …мы залезали под рояль и слушали, как сестра играет гаммы и “Бурю на Волге”» ( Дурылин : 62) .
Как видим, в пространстве дома «предмет» пронизан ценностными смыслами, и герой органично воспринимает и переживает не только свое предметное родное-родовое, но и культурное («Это были первые оперные мелодии, врезавшиеся в мой детский слух»; «Я с ранних лет знал наизусть “Воздушный корабль”» ( Дурылин : 62); «Это был мой первый восторг-ужас перед Шекспиром, а был я тогда неграмотен и мал» — Дурылин : 74).
Однако не предметное и не субъективное и даже не культурно-историческое выражают специфику миропостроения в воспоминаниях Дурылина (хотя этих уровней достаточно для создания колоритного образа усадьбы), а христианское:
оно придает «вневременное», вечное бытие «усадебным» ценностям (усадьба как место их жизненности и даже бытийству-ющей духовной витальности). Дурылин «центрирует» повествование, «подчиняет» его христианскому, вокруг которого и «собирается» мир.
Иерархическая центрированность проявляется в воспоминаниях писателя в двух заметных формах: сакральным центром дома являются икона и духовно пресуществленный человек.
В семейном пространстве дома икона — священный центр, она становится «жизни подателем», началом благого приятия жизни:
«Зал (или “залушка”, как звал отец) была самая большая комната в доме, окнами в сад, и самая важная. <…> Посреди зала стоял дубовый стол, к которому семья собиралась за дневным и вечерним чаем. В остальное время зал был пуст. Раза три-четыре в году выносили из зала дубовый стол — и по паркету носились танцующие пары.
Но и эти пары, и семья за вечерним чаем — все это были гости в большом зале. У него был настоящий Хозяин, никогда его не покидавший: большой старинный образ Спаса Нерукот-воренного в правом углу. Перед томным Ликом горела неугасимая лампада.
Здесь, в этом переднем углу, было заветное место всего дома и всей семьи.
Здесь, перед старинным Спасом, приходское духовенство “славило Христа” в Рождество, пело “Христос воскресе!” в Светлый праздник, молебствовало Николе в именинный день отца. Здесь крестили тех из детей, кто родился слабым и кого боялись нести в приходской храм. Здесь, под Нерукотворенным образом, благословляли образами сестер, выдаваемых замуж. Здесь совершали напутственные молебны перед отправлением в путь, далекий или близкий, всей семьи или одного из ее сочленов. Здесь служились и благодарственные молебны при возвращении из пути и при других радостных событиях.
Этот Спас прибыл с отцом из родной Калуги — в нем была связь семьи с родом, с родным городом, с “прежде почившими отцами и братьями”.
Отец, приезжая из “города”, скинув шубу, прямым шагом шел к Нему — и молился Ему горячо и благодарно как Хранителю и Спасителю» ( Дурылин : 60).
Дурылин иерархически центрирует («христоцентрирует») усадебное пространство так, что не только семейная атмосфера дома, но даже и сам «камень» наполнен Христовым светом. «Монастырский дух» становится внутренним свойством усадебного топоса:
«Дом был без “архитектуры”: ни лицевых фасадов, ни фронтонов, ни колонн, но строен так, точно в нем намеревались не просто жить, а века вековать. Стены были широки, плотны, добротны, как в древнем монастыре. Половина нижнего жилья была на сводах, точно трапезная палата в таком монастыре. <…>
Нет фасада, нет архитектуры, а между тем это поместительное, старое белокаменное здание, содержимое в большой чистоте и приглядности, было именно дом — большой, но не огромный дом, рассчитанный на большую семью, но построенный внешне и внутри так, что, кроме этой одной семьи со всеми ее домочадцами и слугами, он никого и ничего не мог, да и не желал, вместить» ( Дурылин : 58);
«Во всю столовую тянулся длинный и узкий, как в монастырских трапезных, обеденный стол. <…> …столовая превращалась в трапезную: перед началом и после еды молились перед деису-сом, хотя вслух молитвы не читали; по окончании еды все подходили к переднему концу стола благодарить отца и мать» ( Дурылин : 68);
«Опустив, вровень со всеми, ложку в чашку, надо было нести ее ко рту степенно, неторопливо, чтобы не выплеснуть на столешник, не пролить на соседа. Надо было не “перехватывать кусок” кое-как, наспех, а вкушать пищу с достоинством, с уважением к вкушаемому, надо было не наедаться, а обедать и даже трапезовать — надо было, одним словом, соблюдать чин в еде, что так умели делать в старину не только в монастырской трапезной, но и в простой крестьянской избе и чего не умеют ныне делать нигде.
Я с глубокой благодарностью вспоминаю эту деревенскую трапезу за нашим кухонным столом, за которым часто трапезовали настоящие бабы и мужики из веневской или калужской деревни, приехавшие на гостины к нашей прислуге. Эта трапеза не только вводила меня в обиход русской деревни, она вводила меня еще в обиход старой Руси, чтившей хлеб как высший дар Божий и вкушавшей его с благодарною молитвою» ( Дурылин : 72–73).
Описание-воспоминание духовного пространства дома, «родного угла» поражает своей «именной» точностью и «фактурной» подробностью (такая обстоятельность в описании иконы не только сближает ее с другими предметами дома, но и возвышает ее над ними благодаря «сверхчувственным» смыслам, из нее исходящим). Дурылин называет имя каждой святой «вещи»: икон Спаса Вседержителя, Христа на тайной вечери, Иверской Богоматери, Казанской Богородицы, архангела Михаила, Трех святителей, Николы Чудотворца, Двуна-десяти праздников и т. д. (см.: Дурылин : 64–65).
С ними судьбоносно связана жизнь отдельного человека и семьи в целом. Через них в жизнь человека и семьи входит тысячелетняя история русской земли и Православия:
«В божнице же хранилось много мелких икон и иконок — живописных, финифтяных, литых из серебра и резных из кипариса.
Если б можно было рассказать о каждой из них, откуда и почему внесена она с благоговейной верой и с теплым упованием в этот домашний “кивот святыни”, какую повесть сердечных утрат, несбывшихся надежд и вновь воскресших светлых чаяний можно было бы прочесть, глядя на эти большие и малые, светлые и темные лики!
Тут были образа и кресты из разных святых мест Русской земли: из Московского Кремля, из Троицкой Лавры, из Ростова Великого, из древнего Киева.
Тут были святыни и с далекого чужестранного православного Востока и Юга: иконы с Афона, резной из перламутра образ Воскресения из Иерусалима, пальмовые вайи — ветви Палестины, тут были алые восковые свечи с изображением Воскресшего Христа, зажженные от священного огня над Гробом Господним в пасхальную ночь; тут был кипарисовый образ усопшей Богоматери из Гефсимании, из места Ее Успения; тут был небольшой круглый стеклянный сосудец с благоуханным миром от гробницы святителя Николая из Барграда в Италии.
Все это были дары, привезенные отцу и матери паломниками, которым они помогали отправиться в далекий путь, прохожен-ный еще русскими людьми в XI веке» ( Дурылин : 64 – 65) .
Таким способом иконы, как и другие святые «вещи» («утварь») дома, являлись духовными «окнами» в большой мир, пресуществляли самого человека и превращали благодаря внутренней причастности к ним обычную историю в священную историю, придавая жизни человека другое — «сверхмирное» — измерение. Он становился носителем просветленного знания, переживал и хранил в себе его скрытые, но сердечно близкие смыслы и ценности, восходящие к Гефсимании, Иерусалиму, Палестине, к православному Востоку, к святым местам Русской земли, — к событиям христианской истории. Писатель не просто воспроизводит христоцентрич-ное пространство усадебного дома, а говорит о соприродности переживаний человека этому просветленному миру. Дурылин вспоминает:
«Когда я, еще ребенком, читал и повторял наизусть “Ветку Палестины” <…> мне не нужно было никаких объяснений: все это было перед моими глазами в маминой комнате, перед всем этим я молился с чистой детской верой, с теплым упованием и светлой любовью.
“Луч лампады…” Как знаком он был мне с первых дней младенчества! Он встречал нас в каждой комнате обширного отчего дома: всюду сиял он — золотой, синий, алый, зеленый — высоко, в переднем углу» ( Дурылин : 65).
В воспоминаниях Дурылина речь идет об особом восприятии национальной культуры, о переживании ее как своего домашне-родового духовного достояния, со временем утрачиваемого в «знании» нарождающейся молодежи. Писатель выражает боль по поводу уходящего из нового поколения переживания-знания отечественной культуры, показывает, как стали учить в гимназии, с какими настроениями «выучившийся» вступал в жизнь: пройдя казенную школу, вновь нарождающаяся русская интеллигенция, по свидетельству Дурылина, уже не знала «ни Эллады, ни Пушкина, — или, что то же: ни Христа, ни христианства» ( Дурылин : 336). Усеченное знание стало «жребием русской интеллигенции» и привело к «роковым последствиям» ( Дурылин : 336).
Со стороны Дурылина, выходца из купеческого рода, звучит скрытый упрек дворянству: вы потеряли Россию, потому что в самих себе разрушили духовную иерархию, «христоцентризм», а за ее разрушением пришло и историческое разорение.
Если «элементы» усадьбы в изображении Дурылина (предметное, функциональное, социально-историческое / прехо-дяще-уходящее, субъективно-личностное, культурно-историческое, духовно-онтологическое / православное) иерархически ценностно соподчинены и христианское определяет теоантропную «вертикальность» усадебного мира, то в описании Ольнем все «усадебные элементы» однопорядковые, существуют в горизонте личностного или общественного события. Они фактографичны, окрашены лишь психологически и / или социально, а духовное (христианское) утрачивает свою мироорганизующую функцию и присутствует как форма и риторическая традиция. В рассказе мы встречаемся с совершенно другими принципами развертывания усадебного пространства. Казалось бы, «элементы» миропостроения одни и те же, а образы мира у Ольнем и Дурылина разные. Перед нами «нематематический» случай, когда от перемены мест сумма слагаемых меняется.
О чем именно идет речь? В рассказе Ольнем «Тихий угол» разрабатывается традиционная для русской литературы тема социально-исторического угасания, исчезновения «дворянских гнезд»: «Разоряется наше дворянство, гибнет. И нет спасения. Отцы все прикончили, дети к мужикам на службу идут…»7. Сюжетную линию образует история взаимоотношений «народной учительницы» Софьи Михайловны и князя Сергея Андреевича, «последнего представителя славного рода»: «Княжеский род заканчивал в его лице свое существование» ( Ольнем : 165). Софья Михайловна (представительница уже закончившего свое существование дворянского рода) в силу необходимости и материальной необеспеченности вынуждена работать учительницей: ее отец «хлебосол» Трефильев «прокушал все, что имел. И свое, и женино… <…> …дочка без гроша осталась» ( Ольнем : 173).
Однако в контексте рассматриваемой проблемы — выявления особенностей ценностного структурирования усадебного пространства — важно обратить внимание на другое: какие повествовательные уровни актуализируются Ольнем и как они выстраивают художественный мир этого произведения. Казалось бы, в рассказе Ольнем заявлены все системные
«элементы» усадебного пространства, какие встречаются в прозе Дурылина, но они разворачиваются линейно, в горизонте психологического и / или общественного события. Различие в актуализации Ольнем и Дурылиным ценностных повествовательных уровней находит выражение и закрепление в названиях сочинений — «Тихий угол», «В родном углу». Если для Ольнем тишина — социально-историческая категория, призванная семантически маркировать процесс исчезновения «дворянского гнезда», синоним смерти, то для Ду-рылина «тихий», «тишина», «тихость» — это духовный комплекс, выражающий соприродную Христу сущность человека.
Рассказ Ольнем начинается с описания безжизненности усадебного пространства, с указания на тишину умирания: «Большой княжеский дом долго стоял необитаемым. Тихо было возле него и грустно становилось каждому от этой тишины. Здесь ни в чем не замечалось признака жизни, все замерло и застыло в безмолвии» ( Ольнем : 164) .
Уже в начале рассказа заявлена безличностная объективация «грусти» («грустно становилось каждому»): безличностная грусть выступает как повествовательный знак объективности, «реалистичности» всего изображаемого.
Усадебное пространство дома последовательно соотносится писательницей с пространством кладбища: обширный круг перед парадным подъездом зарастал «дерезою», кустарником, который «чаще всего <…> встречался на кладбищах» ( Оль-нем : 164):
«Когда в княжеской усадьбе неизвестно откуда появилась непролазно густая дереза, соседние крестьяне порешили:
-
— Никому уже не жить в старом доме. Где разведется дереза, там больше не будет жилья: потому она и растет на кладбище» ( Ольнем : 164);
«И выяснялось родственное сходство между старым домом и княжеским склепом: тот же стиль, та же безжизненность, то же безмолвие и запустение. Памятники былого… Склеп и дом оба неохотно подчинялись влиянию времени, но не могли устоять против него и уже молчаливо признавали свое поражение: разрушались» ( Ольнем : 166).
Символически (что показательно с аналитической точки зрения) звучит заключительная фраза в описании Ольнем усадебного топоса, закрепляющая соотнесенность усадебной и кладбищенской тишины:
«Немое небо и затихшая земля как бы сливались в одно целое. Деревья и кустарники, пруды и террасы, кладбищенские кресты и могилы, удлиненный дом и круглая часовня <…> все казалось однородным. Тогда трудно было различить, где кончается покинутая усадьба, а где начинается кладбище. И здесь, и там тихо кругом. Тихо, пустынно, печально и сиротливо» ( Ольнем : 166 – 167).
С точки зрения социально-исторического процесса Дурылин в качестве предмета описания имеет дело с тем же самым неустранимым событием, что и Ольнем, — с тем, что реально разрушилось и не существует. Но писателю важно запечатлеть не исторический процесс исчезновения усадебного мира — очевидность случившегося (это остается за пределами или на периферии повествования, вскользь упоминается), — а вспомнить и тем самым запечатлеть «надмирность» «памятников былого», нравственно-духовные ценности, которые выражают сущность не только усадебной жизни, но и человеческой природы в целом, то есть передать то, что реально разрушить нельзя. В отличие от Ольнем, для которой кладбище — «мертвое место», для Дурылина оно свято: «эти гробы не мертвы: они <…> “животворящая святыня”, чуждая истления» ( Дурылин : 91).
Если Ольнем соотносит тишину с социальным процессом увядания усадьбы, то Дурылин, начиная главу «Родной дом» с описания тишины, рассматривает ее и как природное, и, больше того, как духовное — предвечное — явление-состояние: «Да и как не быть этой тишине, когда ее питомником, как всюду, была здесь природа?». Даже «гул Господней непогоды да звон святых колоколов» ( Дурылин : 54) связаны с тишиной, утверждают ее: они есть источник «тишины» и в мире, и в человеке («никем не вспугнутая тишина» ( Дурылин : 53), «зеленый квадрат тишины» ( Дурылин : 54), «невозмутимая тишина», «тишайший домик с палисадником» ( Дурылин : 56), «и улицы и переулки запасались новой тишиной» ( Дурылин : 57), «тихостный человек» — Дурылин : 96).
Используя формально одинаково при описании судьбоносных событий, происходящих в усадьбе, пространственное наречие «здесь» (с желанием подчеркнуть, что «здесь», в усадьбе, случается что-то жизненно и даже экзистенциально значительное и определяющее будущее человека), Ольнем и Дурылин по-разному фиксируют эту значимость происходящего.
У Ольнем «здесь» обозначает только физическое пространство, где усадебная жизнь прекращается социально-исторически («Здесь ни в чем не замечалось признака жизни, все замерло и застыло в безмолвии» ( Ольнем : 164). Дурылин использует те же категории, что и Ольнем («…судя по холодному безмолвию, окутавшему дом, точно перенесенный из какого-нибудь дворянского гнезда черноземных проселков, судя по мостовой и тротуару перед домом, спокойно заросшим травою, можно было подумать, что все в доме вымерло и у него нет хозяина. Но хозяин был» — Дурылин : 55), но их направленность и функционально-семантическая значимость другая: они подчинены характеристике «атмосферического», неугасаемого духа жизни, исторически локализовавшегося и выразившегося в усадебном мире. Для Дурылина «здесь» — это категория, обозначающая сакрализованное место, «святое святых»:
«Здесь, в этом переднем углу, было заветное место всего дома и всей семьи. Здесь, перед старинным Спасом, приходское духовенство “славило Христа” в Рождество, пело “Христос вос-кресе!” в Светлый праздник, молебствовало Николе в именинный день отца» и т. д. ( Дурылин : 60).
Другими словами, если для Ольнем пространственное «здесь» призвано ограничить изображаемое процессом исчезновения дворянской усадьбы, то для Дурылина «здесь» — это «точка» благодатной встречи человека с духовно-предвечным, которое определяет его жизнь и судьбу, это пространственно-временное обозначение «вневременного» присутствия в природном, социально-политическом и личностно-бытовом «надмирных» ценностей — ими все измеряется и освящается. Исторически неизбежное Дурылин фиксирует буквально тремя разрозненными предложениями, помещая упоминание факта продажи усадьбы в придаточную часть: «Когда дом был продан…», «Когда пришло разоренье…» (Дурылин: 61); «Когда отец продал дом, купившему пришлось все в доме переломать и перестроить, чтобы приблизить его к обычному типу доходного дома, где все “отдается внаймы”» (Дурылин: 59).
Ольнем же актуализирует этот процесс превращения усадебного дома в служебное помещение, строит на таком превращении социальный сюжет рассказа: «в старом доме масса воздуха пропадает даром» ( Ольнем : 167), и князя Сергея Андреевича уговаривают отдать дом под земскую школу — на что он и соглашается.
Столь же показательны и другие различия в «повествовательных стратегиях» Ольнем и Дурылина. Рассказ Ольнем можно рассматривать как пример расподобления иерархически заданной духовно-ценностной картины мира, когда «элементы» мира те же самые, что и в прозе Дурылина (в произведениях русских классиков), но они выстраиваются не в «вертикали бытия», а в «горизонтали» личного и социального события: организующим началом мира (повествования) становится не духовный исток, не Благодать Господа, а частнобытовое и исторически преходящее, не вечно-закономерное, а психологически случайное.
Ценностно-смысловое различие обнаруживается даже в описании такого явления, как природа. Ольнем и Дурылин хотя и используют одинаковые формально-грамматические и лексические средства пространственного конструирования («Перед домом… Тут… За сиренью…» — у Дурылина; «Тут… У ограды… Возле него… а дальше…» — у Ольнем), но создаваемые ими картины контрастны по семантическому колориту. Ольнем, как уже отмечалось, изображает природу в мрачных красках и символах (кладбище, дереза), Дурылин же соотносит природу усадьбы с жизнью, с радостью бытия:
«В саду было привольно <…>
За сиренью и шиповником росли стройные тонкие вишни и старые приземистые яблони. <…> Рвать яблоки до Спасова дня было не в обычае, но поднимать упавшие яблоки позволялось, и этим пользовалась вся семья, “молодцовская”, кухня и дворницкая. К концу лета начиналась сушка яблок, варка варенья. А в Спасов день сад дарил всех и каждого спелым наливным яблоком. И каких-каких тут не было сортов: коричные, анисовые, китайские, боровинка, белый налив и даже какой-то свинцовый налив! Свое яблоко прямо с дерева — в нем была особая прелесть, яблочко с веточкой, с листиком — что же может быть свежее и чище?! Яблочко, которое благоухало по весне цветом, на твоих глазах росло и зрело, а теперь благоухает у тебя в руке чистым ароматом спелого плода, — что же может быть сочнее и слаще?» (Дурылин: 87–88).
В рассказе Ольнем встречаются эпизоды, которые могли быть в любом тексте классической литературы: сцена молебна, пение «Царю небесный, утешителю…», воспоминание «далеких прежних дней», живое созерцание в памяти образа матери «в светлом платье» ( Ольнем : 177), переживание радостного чувства от приближающегося Рождества. Однако примечательно, что названные духовно-просветленные реалии не организуют, не выстраивают иерархический текст, как это происходит в воспоминаниях Дурылина: Ольнем подает священное как эпизодический факт, как что-то занимательное во «всей убогой школьной обстановке» ( Ольнем : 177).
Наиболее характерным примером, «иллюстрирующим» изменения ценностной функции «вещи» в рассказе Ольнем, является использование церковного календаря. Если в произведениях русских классиков даты церковного календаря обозначают события священной истории, с которыми духовно соотносится герой, и по ним автор выстраивает картину мира (сюжет) («Сегодня у бабушки храмовый праздник — день Усекновения главы Предтечи» — Дурылин : 94), то в рассказе Ольнем христианский праздник — это всего лишь условная дата, с которой героиня связывает свои личные надежды: «Приближалось Рождество. <…> И она все думала, все мечтала о том, как князь приедет на Рождество» ( Ольнем : 184, 186). А когда князь «Сережа» не смог приехать, то Софья Михайловна, отчаявшись, решила повеситься:
«— Скорей! Скорей! Она… там…
Соня с петлей на шее висела на крюке от давно снятого зеркала» ( Ольнем : 187).
Вполне очевидно, что жизнь героини духовно не соотнесена с Рождеством: оно для нее условное время, когда может исполниться ее мечта. Христианский праздник стал формальным ритуалом: для одних (для детей) — поводом для веселья, далекого от сути Рождества, для других (для Сони) — мрачным днем, когда не осуществились ее ожидания. В рассказе Ольнем церковный календарь «молчит». Правда, вместо «церковной» сути времени писательница утверждает свою меру, свою жизненную «религию»: Софья Михайловна (после спасения ее из петли) приходит к простому прозрению, дарованному ей тяжелым испытанием:
«Ученики и сотрудницы, отец Порфирий и сторож Гаврила, фельдшер и власовские обитатели — все обрисовывалось сегодня перед нею в совершенно новом, мягком и симпатичном освещении. Соне казалось, что она внезапно полюбила их всех и больше уже никогда не разлюбит. Ей было хорошо и легко. И это, незнакомое раньше, но заполонившее теперь ее душу настроение, выливалось, как в мелодии, в одном коротком слове: жить!» ( Ольнем : 189)8.
Примечательно, что в литературных воспоминаниях Дуры-лин тоже пишет о самоубийстве: делится личным поучительным опытом мыслей о самоубийстве. Но в отличие от героини «Тихого угла», для которой выходом из тупика стала обыденная жизнь повседневного труда и радостей, автобиографический герой воспоминаний Дурылина «Спасением спасается» (Богом, Спасителем, Спасом): обретает и радость повседневной жизни, и духовное просветление, которое не замыкает его на «частности» своего существования, а выводит в безбрежный мир благодати, культуры, творчества — служения.
В письме к Н. К. Михайловскому В. В. Розанов писал: «Сколько в нас родственного, как понятно мне всякое слово, Вами произносимое, как часто кроме сочувствия я ничего не нахожу в себе, читая страницы из Вас, Златовратского, Гл. Успенского; громадная, свежая струя народной жизни, живой исторической жизни, которая льется во всех Вас — вот что к Вам манит меня. <…> Есть только одна громадная пропасть, которая разделяет <…>. Это отношение к вере, Бог» (цит. по: [Туниманов: 44]).
-
В. В. Розанов обратил внимание на духовный сдвиг, случившийся в русском литературном сознании, — на то, что изображаемый мир перестал быть иерархически центрированным и богоявленным, а превратился в просто жизнь, в радостносерое существование человека. С таким миром и человеком мы и встречаемся в рассказе Ольнем: описываемый ею мир оказывается и не богоцентричным, и не теоантропным.
Усадебный мир Дурылина теоантропен, христоцентричен. Средоточием усадебного пространства, его духовным центром, является помимо икон (о чем говорилось выше) и «вспоминаемый» писателем человек: мать, отец, бабушка, няня, кормилицы. Они несли-таили в «тихости» своей жизни силу заботливого служения ближнему, — силу, черпаемую в вечном служении Христа человечеству.
Антропология усадьбы Дурылина — это христианская антропология (этим писатель отличается от многих других «усадебных» писателей). Она в полной мере выразилась в изображении близких людей, которые своим благим участием наполняли мир светом, теплом и мягкостью. Суть христианской антропологии писателя в проступании святости в человеке.
Такой — в ореоле святости — предстает вспоминаемая Дурылиным бабушка. Ее образ прописывается в символике тишины, чуда и благодати:
«Зрительная память (и все это «памяти сердца», благодарного, верного детского сердца) предъявляет мне тихий, хочется даже сказать, мягкий образ женщины <…>. …глаза этого мальчика запомнили, и тоже навсегда, и ту тихую, привычную, неотходную грусть, которая была в этих прекрасных, отуманенных жизненной стужею глазах.
На бабушке — серое фланелевое платье, такое же тихое, как и она сама, и все в ее трех крошечных комнатках так же тихо и так же прекрасно. <…> Все у бабушки чудо» ( Дурылин : 92–93); «…и бабушка опять с нами, опять чудесная, среди своих чудес, и опять тот же взор ласки и любви бесконечной» ( Дурылин : 95).
Но основным просветленным свойством бабушкиной антропности была, как пишет Дурылин, тихость, которая стала «следствием» «внутреннего благого приятия жизни и судьбы. Отсюда и был исток бабушкиной тихости, а не только тишины» (Дурылин: 95–96).
Дурылин и как писатель, и как филолог проявляет чуткость к семантической точности и духовной полноте слова. Он уточняет разницу в понятиях «тишина» и «тихость»:
« Тишина — это внешнее состояние бесшумности <…>; тихость же — это внутреннее состояние души, врожденное или приобретенное нравственным усилием и обнаружимое вовне тою тишиною, которая бывает в высях гор, где нет никаких болот и омутов <…>. Бабушка была тихостный человек <…>. И ти-хостное слово ее я будто слышу до сих пор — и оно для меня всегда радость и завет. Она ласкает и любовью покрывает из-за могилы» ( Дурылин : 96).
Таким же тихим в служении Богу и людям был и отец писателя. Так, только после смерти отца сын узнал о его помощи другим людям и приходам: «Все жертвы его были тайные — иных он не признавал и никаких “честей” за них себе не желал» ( Дурылин : 151). Духовную стойкость отца Дурылин описывает, раскрывая историю его жизни, историю превращения богатого купца в умирающего нищего, словно повторяющего путь Иова:
«“Похули Бога и умри” — этого совета, данного многострадальному Иову, отец не принял, хотя не раз слышал его в конце жизни от мнимых сострадателей. Он не похулил ни Бога, наделившего его многими скорбями за долгую жизнь, ни людей, причинивших ему немало тяжких обид и страданий. Он умирал в глубокой вере в правосудие Божие и в уповании на его милосердие.
Кончина отца была мирна и тиха.
“Мир мног любящим Закон Твой, Господи, и несть им соблазна”. Это сбылось над отцом в полной мере и правде» ( Дурылин : 179).
Воспоминание Дурылина о матери — это сердечно-трепетное повествование о том, как Благодать пребывает в человеке, как любовью к ближнему, служением человеку мать спасает и спасается. В истории ее подвижнической жизни примечателен эпизод, имеющий прямое отношение к биографии писателя. Дурылин откровенно рассказывает о своих модных увлечениях, о том, что он бросил учебу, увлекся «разрушителями ее и моей веры», доходил до предпоследнего мгновения, когда «сжимал <…> не раз уже курок револьвера» (Дуры-лин: 135). И дальше, раскрывая «тайну онтологического», Дурылин делится откровением:
«…кто-то невидимый не давал мне спустить курок. Теперь я знаю, кто был невидимый: мать. <…> И, сам не замечая того, я начал реставрацию себя, — по тому фундаменту, который был заложен ее руками, по тому чертежу строения, который был начертан ею еще над моей детской постелькой» ( Дурылин : 136).
Источником ее тихой заботы и надежды на духовное выздоровление сына была вера в «смысла подателя», к которому она обращалась с молитвой: «Вразуми. Обрати. Настави» ( Дурылин : 135). И когда душевно и духовно выздоровевший сын повез мать в Оптину пустынь, то там «случайно и тайком» услышал он «ее горячие, слезные слова благодарности Тому же, Кого просила она быть “смысла подателем”» ( Дурылин : 137).
С какой бы очевидностью смерти ни приходилось считаться Дурылину (с неизбежностью физического умирания или социально-исторического исчезновения усадьбы), он выше социально-физического ставит метафизическое, духовноонтологическое: для него это высшая реальность, которую можно запечатлеть и выразить в Слове («лишь Слову жизнь дана», по выражению И. А. Бунина9) и антропно, во внутреннем мироустроении нести в себе как несокрушимую ценность, дарованную человеку Христом в Евхаристии.
Творческая установка О. Н. Ольнем на изображение частной и общественной жизни в переходный период российской истории реализуется в создании «плоскостной» картины мира, в подаче материала по принципу «все течет — все меняется»: 1) усадебный дом превращается в служебное помещение и начинает приносить пользу народу в деле просвещения; 2) не-осуществившиеся личные надежды героини на семейное счастье сменяются успокоением и радостью от «оставшегося». Рассказ завершается сценой, символизирующей торжество обыденного и бытового: «Она полежала молча, потом, сладко потянувшись на широкой княжеской кровати, все тем же полусонным голосом произнесла: “Пустяки какие… Все это уже прошло…”» (Ольнем: 193).
Несмотря на разработку разных линий сюжета (социального, субъектного, авторского), несмотря на традиционный набор усадебной предметной и даже духовной реальности, рассказ Ольнем, исходя из создаваемой картины мира, остается в ценностном поле «эмпирического» реализма, а «хри-стоцентричный код» как оценочный критерий позволяет читателю увидеть степень отпадения человека от Благодати.
О подобной трансформации — об изменении мировосприятия и поведения человека в переходный период — С. Д. Кржижановский впоследствии напишет: «И вскоре люди <…> научились жить хоть и по соседству с крестом, но мимо него»10.
Творческая установка С. Н. Дурылина на описание усадебного пространства как теоантропного и иерархически центрированного рождает парадокс: усадьба как культурно-исторический феномен исчезла, а ее «вспоминаемый» просветленный образ, явленный прежде всего 1) и в устроении дома, где жизнетворящим центром является святыня сердца — икона, 2) и в благом смирении и послушании человека, по-монастырски тихом его служении миру, — остается и становится «эмблемой России»11. Именно к такому типу реализма, воплощенному в творчестве Дурылина, применимо понятие «христианский реализм» и его лаконично емкое определение, данное В. Н. Захаровым, — «это реализм, в котором жив Бог, зримо присутствие Христа, явлено откровение Слова » [Захаров: 16].
Таким образом, как бы ни сближались по предметно-персонажному наполнению произведения писателей, сколько бы в них похожего и «родственного» ни было, границей, «громадной пропастью», их разделяющей, оказывается, говоря словами В. В. Розанова, «отношение к вере, Бог». Данное отличие и определяет существование в русской литературе разных «реализмов» и, следовательно, разных читательских и исследовательских стратегий.
Gennady Yu. Karpenko
Список литературы О "реализмах" (рассказ О. Н. Ольнем "Тихий угол" и литературные воспоминания С. Н. Дурылина "В родном углу")
- Гуревич А. М. Динамика реализма: (в русской литературе XIX в.). — М.: Изд-во ГИТИС, 1994. — 88 с.
- Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 2001. — Вып. 6. — С. 5-20 [Электронный ресурс]. — URL: http:// poetica.pro/journal/article.php?id=2511 (20.01.2020). DOI: 10.15393/ j9.art.2001.2511
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. — 288 с. (а)
- Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). — М.: РГГУ, 1995. — 102 с. (Ь)
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. — М.: Кругъ, 2004. — 560 с.
- Есаулов И. А. Христианский реализм как художественный принцип Пушкина и Гоголя // Гоголь и Пушкин: Четвертые Гоголевские чтения. — М.: Книжный дом «Университет», 2005. — С. 100-108.
- Есаулов И. А. Новые категории филологического анализа для понимания сущности русской литературы // Литературоведческий журнал. — 2007. — № 21. — С. 3-14. (а)
- Есаулов И. А. Христианский реализм как художественный принцип русской классики // Феномен русской духовности. — Калининград: Изд-во РГУ им. Канта, 2007. — С. 9-20. (Ь)
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во РХГА, 2017. — 550 с.
- Карпенко Г. Ю. О типе, типическом в «физиологическом очерке» // Проблемы поэтики русской литературы Х1Х-ХХ веков. Памяти профессора В. П. Скобелева. Сб. науч. ст. — Самара: Изд-во «Самарский университет», 2005. — С. 151-160.
- Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. — 272 с.
- Маркович В. М. О трансформациях «натуральной «новеллы» и двух «реализмах» в русской литературе XIX века // Русская новелла: Проблемы теории и истории. Сб. ст. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1993. — С. 113-134.
- Прохоров Г. М. «Некогда не народ, а ныне народ Божий.» Древняя Русь как историко-культурный феномен. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010. — 320 с.
- Туниманов В. А. Заметки на полях писем В. В. Розанова к Н. К. Михайловскому (о «двойной морали», «жестокости» и «господине с ретроградной физиономией») // Достоевский. Материалы и исследования. — СПб.: Наука, 2000. — Т. 15. — С. 44-66.
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. — М.: Русский язык, 1994. — Т. 2. — 560 с.