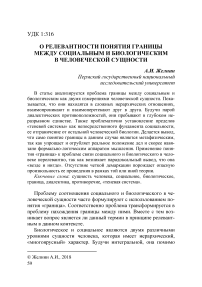О релевантности понятия границы между социальным и биологическим в человеческой сущности
Автор: Желнин А.И.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (2), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется проблема границы между социальным и биологическим как двумя измерениями человеческой сущности. Показывается, что они находятся в сложных иерархических отношениях, взаимопроникают и взаимоперетекают друг в друга. Будучи парой диалектических противоположностей, они пребывают в глубоком неразрывном единстве. Также проблематично установление пределов «теневой системы» как непосредственного фундамента социальности, ее отграничение от остальной человеческой биологии. Делается вывод, что само понятие границы в данном случае является метафизическим, так как упрощает и огрубляет реальное положение дел и скорее навязано формально-логическим аппаратом мышления. Применение понятия «граница» к проблеме связи социального и биологического в человеке нерелевантно, так как возникает парадоксальный вывод, что она «везде и нигде». Отсутствие четкой демаркации порождает опасную произвольность ее проведения в рамках той или иной теории.
Сущность человека, социальное, биологическое, граница, диалектика, противоречие, «теневая система»
Короткий адрес: https://sciup.org/147230410
IDR: 147230410 | УДК: 1:316?
Текст научной статьи О релевантности понятия границы между социальным и биологическим в человеческой сущности
Проблему соотношения социального и биологического в человеческой сущности часто формулируют с использованием понятия «граница». Соответственно проблема трансформируется в проблему нахождения границы между ними. Вместе с тем возникает вопрос является ли данный термин в принципе релевантным в данном контексте.
Биологическое и социальное являются двумя различными уровнями сущности человека, которая имеет иерархический, «многоярусный» характер. Будучи интегральной, она помимо
них включает в себя и другие «пласты» материального мира, а именно физический и химический. Однако поскольку физика и химия «встроены» в свою очередь в биологию, опосредованы ею, то поэтому именно различение социального и биологического является для человеческой сущности доминантным . Их различие в каком-то смысле доведено до крайности, полярно, поэтому их можно определить как пару противоположностей. Иерархический, «вертикальный» же характер отношения как соответственно более сложного и более простого дал повод ряду исследователей говорить о них, используя понятия «высшее» и «низшее». Важно помнить, что включение второго в первое не означает, что низшее «растворяется» в высшем, наоборот, различие между ними удерживается : «Когда “ниже” лежащие закономерности входят в состав “выше” лежащих уровней, то сами эти законы не меняются и поэтому сохраняют свое значение» [1, с. 146]. Меняется только статус включенного: так, при появлении социального биологическое сохраняет свое значение, но теряет определяющее, ведущее значение у человека. Однако это не меняет сути: по логике так как они олицетворяют собой разные уровневые «этажи» человеческой сущности, то между ними должна пролегать граница, которая демаркирует одно от другого.
Вместе с тем социальное и биологическое как варианты высшего и низшего являются противоположностями не в формально-логическом, а в диалектическом смысле. Другими словами, они не разобщены между собой, а пребывают в глубоком единстве и взаимопроникновении. Более того, образующееся между ними диалектическое противоречие делает их самих не «застывшими», а подвижными, определенной степени «перетекающими» друг в друга. Они пребывают в своего рода симбиотическом со-разитии, коэволюции. Наиболее наглядным примером конечно является онтогенез человека, когда он рождается биологическим объектом и только потом через сложные процессы социализации приобретает те или иные общественные качества. Конечно можно возразить, что социальность присутствует у новорожденного в потенциальном (виртуальном) состоянии, а затем актуализируется, однако сама эта возможность заложена, если угодно «закодирована» в сугубо биологических видовых 60
качествах человека (анатомо-физиологическая готовность к освоению трудовых операций, позднее созревание и пластичность мозговых структур, склонность к имитации и обучению, групповой образ жизни, неотения и т.д.). Однако сами социальные качества и свойства никак не преформированы в человеческом организме. Они скорее накладываются на биологическую основу, в определенном смысле «встраиваются» извне под совокупным влиянием общественных связей и отношений: «Человек является не просто социальным, но интегральным социальным существом, поскольку он включает в себя в качестве основы всю бесконечность предшествующего развития материи. В этом смысле биологический уровень представляет собой основу социального, он находится в подчиненном положении и выполняет требования социального уровня, при этом биология человека и общества не теряет своего собственного качества, ее способ существования – адаптация к готовым условиям существования» [2, с. 285–286]. Но когда человек процессуально приобретает социальную сущность, то биологическое в нем также постепенно утрачивает свое определяющее, ведущее значение: «Возникновение социального не означает полного разрыва с биологическим, уничтожение биологического, оно лишь ставит предел независимому действию биологических факторов, сохраняя и удерживая его в себе в качестве подчиненного» [3, с. 64]. Аналогично и общество филогенетически формируется из биологического плавно и постепенно, так что можно согласиться с тем, что первые элементарные социальные акты в антропогенезе были «необычным способом сцепления обычных для биологического мира явлений» [4, с. 34]. Поэтому справедливо говорят о диалектическом снятии биологического социальным.
Поиски границы между социальным и биологическим чреваты нивелированием принципа единства человеческой сущности. В итоге это может способствовать становлению уже не старого дуализма, когда сущности мыслятся как одноуровневые и рядоположенные, а своего рода «вертикального» дуализма, когда они располагаются одна над другой, но при этом продолжают быть фатальным образом разобщенными. В любом случае это приводит к расколу человеческой природы, потере ею своей холистической целостности. П.С. Гуревич справедливо указывает 61
на то, что «философское постижение человека невозможно без осознания его целостности. Поэтому нельзя изучать человека “по частям”, скажем, отдельно его биологическую или социальную природу» [5, с. 4]. Граница так или иначе будет указывать на то, что социальное и биологическое являются жестко, контрадикторно отделенными противоположностями формальнологического типа. Если продолжать использовать логическую терминологию, то такая двойственность приводит, по выражению А.В. Брушлинского, к «дизъюнктивному» взгляду на человека [1]. Поэтому закономерно возникает вопрос стоит ли вообще предполагать наличие границы в качестве четкой (статичной или динамичной) демаркационной линии.
Таким образом, единственной альтернативой является признание того, что такой границы в действительности не существует. Социальное и биологическое являются диалектическими противоположностями и как таковые пребывают в человеке в глубоко единстве, слитности. Так, А.С. Мамзин отмечает, что «социальное в человеке не просто надприродно, надбиологично, как утверждают некоторые исследователи, но и “погружено” в биологическое, проникает в него и активно его преобразует как в онтогенезе отдельного человека, так и в филогенезе вида Homo sapiens» [6, с. 98]. С другой стороны, взаимодействие социального и биологического в человеке реципрокно: внутренняя биологическая основа также способа оказывать влияние на высшие общественные процессы и их специфику. Так, по мнению Д.И. Дубровского, глобальные проблемы современности во многом порождены действием атавистических животных программ, которые закреплены в человеке на генетическом уровне: «Будучи социальным существом, человек продолжает действовать как животное, направляя свою колоссальную активность во внешнюю среду – таков главный вывод. В этой биологической программе заключено основное препятствие. И оно незыблемо укоренено в глубинах нашей биологической организации. Именно фундаментальная асимметрия в познавательной и преобразовательной деятельности человека служит источником углубления экологической и других глобальных проблем» [7, с. 52].
В контексте вышеизложенного можно сформулировать тезис, что «любая граница есть метафизика», так как постулирование 62
границ огрубляет и упрощает реальное положение дел, жесткое разделение лишает взаимопереходов и взаимопревращений. Крайне удачным термином является введенное В.В. Орловым понятие «теневая система»: «Поскольку низшее, включаясь в состав более сложного уровня, претерпевает существенную эволюцию, обусловленную системой высшего уровня, “включенное низшее” образует специфическую систему, сохраняющую общую природу низшего, но организованную в соответствии с системой высшего уровня. Эта система низшего была названа нами “теневой системой”» [8, с. 28–29]. Важным моментом является указание на отношение структурного изоморофизма между высшей и теневой системами, которое является основой их нераздельности. Таким образом, «теневая система» является проводником между высшим и низшим, залогом континуума между ними. Слитые структурно, социальное и биологическое поэтому сохраняют противоположность преимущественно в функциональном плане, в своих способах существования: для первого им является производство, для второго – приспособление. Однако и тут мы не сможем найти четкого разделения: сознательная производящая деятельность, труд, с биологической стороны одновременно есть высшая, наиболее совершенная адаптация, что позволило, например, И.И. Шмальгаузену охарактеризовать переход к трудовой деятельности в ходе антропогенеза как последний радикальный ароморфоз, эпиморфоз [9, с. 216]. Теневая система, формально подчиненная фундаментальным законам низшего уровня, на деле претерпевает максимальные изменения под направляющим влиянием высшего и синхронно с ним. Вопрос о «теневом» биологической фундаменте социального является поэтому центральным для понимания их глубокой диалектики .
Вместе с тем снова всплывает призрак понятия «граница», однако уже в модифицированном виде: возникает вопрос каковы границы самой биологической «теневой системы» социального. Дело в том, что последняя, будучи непосредственной низшей «матрицей» высших общественных качеств, отношений и процессов, отнюдь не тождественна всей человеческой биологии как «включенному низшему», а представляет собой ее пласт, максимально приближенный к социальному. Здесь под- 63
час сохраняется устаревший рационализм: так как человек мыслится как существо разумное, то ищется прежде всего биологический коррелят сознания и разума. Им общепризнанно выступает деятельность головного мозга, ЦНС. С одной стороны, это верно, так как в случае центральной нервной системы наблюдается максимальное переплетение социального и биологического, их психофизиологическое единство: на сегодняшний день очевидно, что за процессы мышления, памяти, поведения и т.д. отвечает синаптическая передача между различными нейронами, их сетевыми ансамблями, посредством целого ряда нейротрансмиттеров, а также феномен синаптической пластичности, гибко изменяющей параметры данной передачи [10]. Однако так как ЦНС выполняет также функции интеграции, регуляции и контроля за прочими соматическими системами организма, то далеко не вся она в этом ключе может быть признанной «теневой системой». Многие подкорковые структуры отвечают за инстинктивные, бессознательные паттерны поведения или даже за чисто физиологические (гомеостатические, эндокринные) феномены и поэтому также не очень связаны с разумом. Эти соображения, а также экспериментальные и клинические данные заставляют многих авторов считать основой человеческой разумности интегративную деятельность коры больших полушарий и особенно ее лобных (префронтальных) долей [11]. Более того, имеет место тенденция к конкретизации отдельных групп корковых нейронов, которые вносят привилегированный вклад в обеспечение высших психологических и социальных функций: ярким примером здесь являются зеркальные нейроны, которые рассеянны в разных зонах коры и, по мнению исследователей, ответственны за процессы имитации, эмпатии, научения, коммуникации и социального взаимодействия [12]. Данная точка зрения иногда дополняется соображениями, что есть и более низкие уровни человеческого «Я» (А. Дамасио определяет их как «прото-самость» [13]), которые обеспечиваются соответственно более эволюционно старыми, медиальными структурами мозга, например, ретикулярной формацией, отвечающей за поддержание тонуса коры, бодрствование, внимание итд. [14]. Так, такая довольно древняя структура лимбической системы как гиппокамп на сегодняшний день общепризнанно рассматри- 64
вается как основной центр консолидации памяти и обучения [15]. По мнению А.М. Иваницкого, возникающие на базе активности коры высшие психические функции могут в свою очередь оказывать активное обратное влияние на нейрофизиологические процессы, что до известной степени может быть ключем для объяснения такой сугубо человеческой способности как свобода воли и выбора: «Психическое не только возникает на основе интегративной деятельности мозга, но и способно, в порядке нисходящей детерминации, управлять работой отдельных нервных клеток и обменом импульсами между ними. Это не противоречит положению о том, что сложное состоит из простых элементов, так как в обоих случаях речь идет о разных видах детерминации: восходящей и нисходящей» [16, с. 40]. Это также соответствует специфике «теневой системе», так как, по описанной диалектике, высшее и низшее в ее пределах взаимодействуют наиболее тесно и влияют друг на друга обоюдно .
Однако эта позиция может встретить серьезную критику. Во-первых, интенция определять человеческую сущность только через разумность является явно устаревшей. С современной точки зрения, имеет место целая иерархическая система сущностных сил человека, к которым относятся труд, мышление, общение, речь и язык, способности, потребности и другие [17]. Причем первенством обладает именно труд, так как он совпадает по содержанию с самим фундаментальным способом бытия человека, производящим, преобразующим по своей сути. Основой же труда является не изолированная деятельность ЦНС, а сложно синхронизированная работа нервного, сенсорного, мышечного аппарата, причем в пропорциях, которые значительно разнятся в зависимости от конкретного вида деятельности. Во-вторых, в школе П.К. Анохина показано, что на базе ЦНС складываются та или иная функциональная система, отвечающая за целостные акты поведения (а не изолированные акты мысли) и топографически простирающаяся за пределы головного мозга на другие морфологические структуры, интегрированные в нее через наличие цели и оценку результатов деятельности: «С позиции общей теории функциональных систем процесс мышления строится на акцепторах результатов действия информационных системоквантов, которые отражают потребность человека и формирующуюся на 65
ее основе доминирующую мотивацию, а также действие внешних факторов. В построении мыслительной деятельности результат выступает как ведущий системообразующий фактор. В мыслительной деятельности происходит ее опережающее программирование акцептором результатов действия. Наконец, эффекторное выражение мыслительных процессов у человека осуществляется через субъективное эмоциональное переживание и поведение, соматовегетативные компоненты и через аппарат речи. Все эти процессы непрерывно оцениваются с помощью обратной аффе-рентации» [18, с. 72]. Функциональные системы не совпадают с анатомическими системами организма и, конечно имея свой конечный управляющий центр в мозге, включают и исполнительные органы, что и является залогом единства мысли и действия. Наконец оказывается, что даже специфика функционирования на периферии организма способно по принципу обратной связи приводить к значительному изменению сознания. Показательной является одна из книг О. Сакса, где он показывает, что невропатические нарушения работы конечностей в итоге порождают искажение образа тела и телесного «я»: «Все эти больные чувствовали, что их конечности отсутствуют или являются чужеродными объектами. В этих случаях также изучение вызванных потенциалов показало тяжелое поражение или отсутствие перцептивной информации и репрезентации в соответствующих областях сенсорной коры: объективно демонстрируемую потерю образа руки или ноги… Каждый пациент с тяжелым поражением образа тела страдал в равной мере от тяжелого поражения телесного Эго» [19, с. 259–261]. Что же говорить о недавних открытиях в сфере микробиоты человеческого организма, когда было показано, что ее состав влияет на состояние и поведение человека посредством того, что бактерии синтезируют те или иные гормоны и нейромедиаторы [20].
Вышесказанное позволяет заключить, что понятие границы также трудно применимо в вопросе «теневой системы» социального в биологии человека: она как бы пронизывает собой ее всю, иррадиирует вплоть до глубокой периферии . Это, однако, не отменяет того, что ЦНС и особенно ее высшие корковые отделы занимают привилегированное положение, так как именно в них мы находим управляющие центры и труда, и мышления, и 66
речи, и потребностей с сознательным контролем поведения по их удовлетворению. Можно сформулировать вывод, что граница по своей сути метафизична, так как она до определенной степени упрощает и огрубляет действительное положение дел. Она скорее свойственна не самой реальности, а нашему формально-логическому мышлению, стремящемуся аналитически расчленить исследуемую целостность . Показательным является исследование Дж. Агамбена, который полагал, «антропологическая машина» существует путем постоянного расчленения человека на собственно человеческое и не-человеческое (животное): «Человек в нашей культуре всегда был результатом разделения и в то же время сочленения животного и человека, причем одно из понятий оказывалось под угрозой. Поэтому отключение господствующей машины наших концепций человека означает не только поиски новых, более эффективных и более подлинных точек соприкосновения, сколько выставление напоказ центральной пустоты, зияния, которое – в человеке – отделяет человека от животного» [21, с. 112]. Другими словами, проведение произвольных границ может привести либо к глубокому дуализму, либо (что тоже показал Агамбен) к нивелированию различия вообще и к редукционистическому сведению одного к другому. Очевидно, что для такого крайне сложного и комплексного феномена как человеческая сущность «дизъюнктивная» логика наталкивается на непреодолимые преграды . Г. Лейбниц в свое время сформулировал на формально-логических основаниях онтологический принцип «тождества неразличимых». В случае же социального и биологического в человеке мы имеем дело уже с «тождеством различимых» (глубоким единством противоположностей). В соответствии с диалектикой можно было бы ответить только, что граница между ними «везде и нигде». Отсутствие четкой демаркационной линии между социальным и биологическим может привести только к опасной произвольности ее проведения в рамках того или иного теоретического подхода. Диалектическая идея их континуума вместе с тем должна полностью согласовываться с иерархическим характером их соотношения как «высшего» и «низшего», что диктуется самой природой сложных феноменов и их развития .
С. 56–65.
С. 33–37.
TOWARDS RELEVANCE OF CONCEPT
OF FRONTIER BETWEEN THE SOCIAL
Perm State University
Список литературы О релевантности понятия границы между социальным и биологическим в человеческой сущности
- Брушлинский А.В. О соотношении социального и биологического в психике человека // Биология в познании человека. М. : Наука, 1989. С. 141-150.
- Калачиди Е.Ю. Соотношение социального и биологического в человеке с позиций современных научных теорий // Личность. Культура. Общество. 2009. Т. XI, № 2(48-49). С. 283-287.
- Мамзин А.С. Природа человека и проблема взаимосвязи биологического и социального // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. Т. 2, № 4. С. 56-65.
- Худякова Н.Л., Смирнов Д.М. Производство человека // Вестник Челябинского государственного университета. 2016. № 5(387). С. 33-37.
- Гуревич П.С. Проблема целостности человека. М.: ИФ РАН, 2004. 178 с.
- Мамзин А.С. Взаимосвязь биологического и социального в природе человека // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2012. Т. 2, № 1. С. 97-103.
- Дубровский Д.И. Биологические корни антропологического кризиса. Что дальше? // Человек. 2012. № 6. С. 51-54.
- Васильева Т.С., Орлов В.В. Проблема соотношения биологического и социального. Пермь: ПГУ, 1996. 97 с.
- Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюции. М.: Наука, 1983. 360 с.
- Abbott L.F., Nelson S.B. Synaptic plasticity: taming the beast // Nature neuroscience. 2000. Vol. 3, no. 11s. P. 1178-1183.
- Голдберг У. Управляющий мозг. Лобные доли, лидерство и цивилизация. М.: Смысл, 2003. 335 с.
- Iacoboni M. Imitation, empathy, and mirror neurons //Annual review of psychology. 2009. Vol. 60. P. 653-670.
- Damasio A. The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. N.Y.: Harcourt Brace, 2000. 386 p.
- Матюшкин Д.П. О возможных нейрофизиологических основах внутреннего «я» человека // Физиология человека. 2007. Т. 33, № 6. С. 50-59.
- Bliss T.V.P., Collingridge G.L. A synaptic model of memory: long-term potentiation in the hippocampus // Nature. 1993. Vol. 361, no. 6407. P. 31-39.
- Иваницкий А.М. Сознание и мозг: «как проверить алгеброй гармонию»? // Вопросы философии. 2015. № 2. С. 38-44.
- Васильева Т.С., Орлов В.В. Социальная философия. Пермь, 2011. 352 с.
- Судаков К.В. К теории о единстве материального и идеального в деятельности человека // Человек. 2011. № 1. С. 70-75.
- Сакс О. Нога как точка опоры. М.: Астрель, 2012. 314 с.
- Cryan J.F., Dinan T.G. Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behavior // Nature reviews neuroscience. 2012. Vol. 13, no. 10. P. 701-712.
- Агамбен Дж. Открытое. Человек и животное. М.: РГГУ, 2012. 112 с.