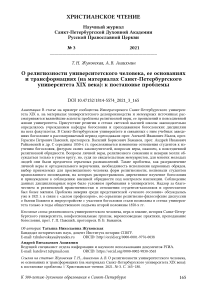О религиозности университетского человека, ее основаниях и трансформациях (на материалах Санкт-Петербургского университета XIX века): к постановке проблемы
Автор: Жуковская Татьяна Николаевна, Ашихмин Андрей Витальевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: К 300-летию духовного образования в Санкт-Петербурге
Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере сообщества Императорского Санкт-Петербургского университета XIX в. на материалах университетского делопроизводства и мемуарных источниках рассматриваются важнейшие аспекты проблемы религиозной веры, ее проявлений в повседневной жизни университета. Присутствие религии в стенах светской высшей школы законодательно определялось учреждением кафедры богословия и преподаванием богословских дисциплин на всех факультетах. В Санкт-Петербургском университете и связанных с ним учебных заведениях богословие в рассматриваемый период преподавали прот. Алексей Иванович Малов, прот. Герасим Петрович Павский, протопресв. Василий Борисович Бажанов, прот. Андрей Иванович Райковский и др. С середины 1850-х гг. прослеживается изменение отношения студентов к изучению богословия, фигурам самих законоучителей, вопросам веры, наконец, к повседневной религиозной обрядности. Вопросы личной веры, религиозного сомнения и неверия могли обсуждаться только в узком кругу, но, судя по свидетельствам мемуаристов, для многих молодых людей они были предметом серьезных размышлений. Такие проблемы, как разграничение личной веры и ортодоксального вероучения, необходимость исполнения церковных обрядов, выбор приемлемых для просвещенного человека форм религиозности, волновали студентов православного исповедания, на которых распространялось директивное изучение богословия и принуждение к соблюдению внешней обрядности под контролем инспекции. Соблюдение данных дисциплинарных норм было условием пребывания в университете. Надзор за благочестием и религиозной нравственностью в отношении студентов-католиков и протестантов был более мягким. Проблема неверия среди представителей «ученого сословия» обсуждалась уже в 1821 г. в связи с «делом профессоров», но серьезные религиозно-философские дискуссии о бытии Божием и мироустройстве с участием богословов стали возможны в стенах университета только в годы общественного подъема второй половины 1850-х гг.
Религиозность университетского человека, вера и знание, история санкт-петербургского университета, конфессиональные группы, вероисповедные практики, преподавание богословия, прот. г. п. павский, протопресв. в. б. бажанов
Короткий адрес: https://sciup.org/140257061
IDR: 140257061 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_165
Текст научной статьи О религиозности университетского человека, ее основаниях и трансформациях (на материалах Санкт-Петербургского университета XIX века): к постановке проблемы
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor at the Institute of History, St. Petersburg State University.
E-mail: ORCID:
Andrey Vital’evich Ashikhmin
Leading Specialist of Department of Information and Scientific Usage of Documents of the Russian State Historical Archives.
E-mail: ORCID:
Целью нашей статьи является постановка проблемы отношения просвещенного человека Нового времени, интеллектуала, в данном случае — университетского ученого или студента, к вопросам веры, а также к присутствию Церкви в университетском пространстве и православного вероучения — в программе обучения. Это присутствие было постоянным и обязательным, в то время как в российских университетах (за исключением «окраинных» Дерптского, Виленского, Варшавского) отсутствовали факультеты богословия. Данная тема до сих пор остается на периферии исследований по истории университетов. Однако имеются работы, посвященные постановке преподавания богословия в С.-Петербургском и Московском университетах [Тихонов, Бильвина, 2009; Андреев, Цыганков, 2016], биографиям и ученым сочинениям наиболее выдающихся профессоров богословия, которые одновременно были настоятелями университетских храмов [Сухова, 2014]. Биографии преподавателей богословия отражены в генеральной базе данных СПбГУ о профессорах XIX-XX вв. [Сетевой биографический словарь профессоров, 2012–2021]. Мы пока оставляем за скобками историю межконфессионального взаимодействия представителей разных вероисповеданий внутри профессорского сообщества и между студентами-православными и студентами-католиками (которых было около 30%, в силу массового присутствия поляков в аудиториях столичного университета империи в 1830–1850-х гг.).
Обсуждая проблему веры универсантов, необходимо учитывать, во-первых, законодательные рамки, в которых действовали представители православного университетского большинства и неправославного меньшинства; во-вторых, социальные условия религиозного взаимодействия, которые задавала университетская повседневность и которые существенно отличались от условий за пределами университетских стен; наконец, субъективные, историко-антропологические факторы веры или неверия.
Проще всего представить вероисповедные практики как часть повседневной жизни университетского человека: выяснить, постоянными ли прихожанами и каких именно храмов были университетские люди, в какой обстановке совершались ими церковные обряды. Замкнутое немногочисленное сообщество Петербургского университета (а до него Педагогического института) нуждалось в собственной домовой церкви, в котором совместная молитва еще больше объединила бы «учащих и учащихся». Но такое пространство сложилось не сразу. В начале существования Педагогического института как отделения университета студентам полагалось бывать еженедельно по воскресеньям на службе в близлежащих храмах. Чаще всего это был Андреевский собор, расположенный практически во дворе старого здания Учительской семинарии на 6-й линии В. О., которое принадлежало институту, а затем университету. Первая домовая церковь университета (церковь Преображения) была очень скромной, она действовала несколько лет с 1819 г. и до преобразования Главного педагогического института в университет — в южной части здания Двенадцати коллегий, где располагались аудитории, дортуары студентов и квартиры профессоров. В 1822–1837 гг., во время перемещения университета на окраину Петербурга в здания на Звенигородской и Кабинетской улицах, универсантам и воспитанникам университетского Благородного пансиона служила домовая церковь пансиона — деревянный храм св. Екатерины.
После возвращения университета в перестроенное под его нужды здание Двенадцати коллегий в центральной части здания по проекту архитектора А. Ф. Щедрина, согласованному с министром С. С. Уваровым, был построен великолепный храм св. апостолов Петра и Павла, освященный 12 июля 1837 г. Он надолго стал объединяющим корпорацию духовным пространством. Кроме университетских студентов его посещали и студенты Главного Педагогического института, размещавшегося более 20 лет в том же здании Коллегий.
Количество прихожан университетской церкви в дореформенный период соответствовало числу студентов греко-российского исповедания и профессоров с их семействами (о присутствии членов семей профессоров на службах сообщает мемуарист-питомец Главного педагогического института: [Один из птенцов Института,
1904, 65]). В середине 1830-х гг. православной была половина профессорской коллегии (другая половина профессоров — протестанты и католики) и примерно 3/4 студентов. Обязательным для всех было присутствие на торжественных богослужениях: молебнах в дни церковных и государственных праздников, при начале и окончании учебного года. Об этих привычных церковных событиях мы находим очень мало сведений, поскольку имеем дело с повторяющейся повседневностью. Фиксируется же, как правило, то, что выходит за границы обыденности.
Таково было пространство видимых, обрядовых проявлений религиозности, где университетские люди были друг у друга на виду, а студенты — еще и перед глазами инспектора. Разумеется, «видимость» могла не совпадать с верой внутренней и формами ее проявления. Эти формы для дворянской интеллигенции первых десятилетий XIX в. были порой далеки от традиционной религиозности и воспроизводили культурную модель дружеской конспирации с элементами масонских ритуалов [Жуковская, 2002, 176–211]. К тому же сама история университетских корпораций была связана с культурой религиозных замкнутых общин, братств. Не случайно студенты того времени обращались друг к другу со словами «коллега» или «брат» [Вишлен-кова, Малышева, Сальникова, 2004, 431]. Разумеется, внешняя обрядность в церкви или во время совместной молитвы соблюдалась, но среди «своих», в узком кругу студентов были приняты только искренние проявления религиозного чувства.
Университетский человек первых десятилетий XIX в. формировался как продукт светской европейской учености, ему было присуще стремление рационализировать знание. Выставлять напоказ религиозное мировоззрение было не принято. Среди редких свидетельств внеакадемической повседневности мы встречаем подробный отчет о похоронах студента Потакинского и гражданской панихиде на Смоленском православном кладбище «с говорением речей» по светскому обряду [Жуковская, 2010, 53–54], конечно же, с заупокойным богослужением. В сохранившихся мемуарах 1820-1840-х гг. практически не встречаются описания университетских похорон, поскольку они проходили обычным порядком. «Необычное» в этот обряд было внесено общественным подъемом 1850-х гг. Так воспринимались похороны Т. Н. Грановского в Москве на Пятницком кладбище, превращенные в манифестацию, или отпевание и похороны Т. Г. Шевченко на Смоленском кладбище, с участием студентов университета [Марголис, 1983, 66].
В описаниях повседневной жизни универсантов почти нет свидетельств о совместных Рождественских и Пасхальных службах, поскольку это было время вакаций и студентам разрешалось отлучиться к родным и отмечать праздники в родственном кругу. Есть свидетельства о строгом соблюдении поста по собственному желанию, но они редки, или же мемуаристы не акцентируют на этом внимание.
В дневнике студента А. В. Никитенко находим описание празднования Пасхи 3 апреля 1827 г., начавшегося церковной службой, а закончившегося в доме попечителя К. М. Бороздина. Автор дневника пишет: «День светлого Христова воскресения. Был у заутрени вместе с товарищами. Очень торжественна та минута, когда студенты по двое в ряд, с зажженными свечами, длинной вереницей обходят университетские залы сначала в полном безмолвии и потом вдруг оглашают их радостными криками: „Христос воскресе!“». После заутрени и обедни попечитель К. М. Бороздин пригласил всех студентов к себе разговляться, чего не делали его предшественники. «Квартира его быстро наполнилась молодыми людьми. Большая зала там была уставлена столами, обремененными разнообразными яствами, — пишет автор дневника. — Мне поручено было угощать товарищей. Добрый начальник наш имел вид настоящего отца. Он беспрестанно подходил ко мне с просьбою всех как можно лучше угощать и никого не забывать. Патриархальные ласки хозяина, оживленные лица товарищей, моя собственная благодарная роль среди них, праздничное настроение всех оставили во мне светлое, радостное воспоминание» [Никитенко, 1955, 43]. Пасхальные торжества были использованы попечителем для сближения со студенческой молодежью, что соответствовало «семейному стилю» университета конца 1820-х гг.
Предшественник Бороздина Д. П. Рунич, считавшийся религиозным ханжой, ужесточил «духовный надзор» в университете. Он предписал инспектору контролировать, не опаздывают ли студенты в воскресные и праздничные дни на литургию в университетскую церковь, а также наблюдать за тем, чтобы они собирались в церкви еще до начала чтения часов, «дабы не нарушалась тишина и благоговение» [ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 4122. Л. 2]. В Страстную неделю студенты должны были говеть и приобщаться Святых Таин в университетской церкви.
По мере усиления общего инспекционного надзора в конце 1830-1840-х гг. обрядовой стороне поведения студентов придавалось еще большее значение. Инспекторский надзор того времени был одинаково суров в отношении казенных и своекоштных студентов, как православных, так и инославных христиан и иноверцев. Студенты-лютеране должны были представить инспектору свидетельство о конфирмации, католики — о первом причастии [Сборник постановлений, 1864, 620]. Своекоштные студенты могли не посещать служб в университетской церкви, но в таком случае они представляли инспектору свидетельства от настоятеля того храма, где они исповедовались и приобщались Святых Таин или (для иноверцев) свидетельство «от духовных особ иноверческих исповеданий».
В университете николаевского времени регламентировались все формы учебных занятий, а также внеучебная и духовная жизнь. Так, инструкция инспектору студентов Петербургского университета 1844 г. исходила из того, что «религия есть тот краеугольный камень, на котором незыблемо зиждется чистая добрая нравственность», а верность православному учению является лучшим «противоядием» против увлечения «пагубными политическими умствованиями» [Инструкция инспектору, 1844, 3]. Инспектор должен был следить за посещением студентами церкви, регулярным участием в таинствах исповеди и причащения, посещением молебнов, соблюдением поста. Казеннокоштные студенты должны были присутствовать на утренней и вечерней молитве в своих комнатах. Той же инструкцией инспектору предписывалось следить, чтобы студенты «ни под каким предлогом и названием не заводили тайных обществ и сходбищ», не читали запрещенных книг, о чем следовало тотчас докладывать попечителю [Инструкция инспектору, 1844, 4-5]. Таким образом, несоблюдение религиозных обрядов рассматривалось в одном ряду с политическим вольнодумством.
Проблему личной веры университетского человека достаточно трудно обсуждать на материале 1820–1850-х гг., поскольку разговоры о вере и религиозных сомнениях велись только в узком кругу, прежде всего, в силу суровости уголовного законодательства, каравшего отпадение от православия или религиозное совращение как тягчайшее преступление [Уложение о наказаниях, 1988, 214-225]. О своих духовных сомнениях и «некрепости в вере» не принято было распространяться, поэтому мы почти не имеем источников об этом. Однако Н. И. Пирогов, учившийся на медицинском факультете Московского университета, детально пересказывает в своих воспоминаниях «дебаты» между материалистами и благочестивыми студентами, а также злые шутки о священнослужителях, звучавшие в 10-м «нумере» студенческого общежития. «Обрядность и внешность богопочитания сохранялись мною отчасти по привычке, отчасти из страха», — признается мемуарист [Пирогов, 1989, 86-87]. Коллективная прививка шеллингианства и атеизма, сделанная в юности, не проходила бесследно. Но она могла и не отразиться на профессиональной и жизненной траектории универсанта.
Внешнее благочестие под страхом наказания рассеялось, едва сменились общественные настроения и ослабел надзор. Уже в 1856/57 учебном году, как свидетельствует А. М. Скабичевский, в одной из больших университетских аудиторий устраивались философские диспуты с профессором логики немцем А. А. Фишером по вопросу о бытии Бога. Причем «студенты отрицали бытие», а престарелый Фишер, как мог, оппонировал им, сообщая: «Когда мы обзираем всю вселенную, мы видим, что она не без духа». Мемуарист признает: «Отрицать бытие Бога и притом в таком публичном месте, как университет, казалось в то время верхом безумной отваги и отчаянной дерзости. Все так и ждали, что смельчакам несдобровать, что, по меньшей мере, они будут исключены из числа студентов, а чего доброго — и разосланы по монастырям для утверждения их в догматах православия. И каково же было общее удивление, когда дерзость их сошла им с рук совершенно безнаказанно!» [Скабичевский, 2001, 103].
В это время сам церковный обряд мог быть использован универсантами как способ выражения общественной позиции, что трудно представить в другом, менее консолидированном сообществе. Так, в 1861 г. в Петербурге студенты почти одновременно участвовали в двух мемориальных акциях, которым был лишь придан вид церковного обряда. Это были уже упомянутые похороны Т. Г. Шевченко 28 февраля 1861 г. на Смоленском кладбище и панихида по умершем студенте Тукалло, устроенная 1 марта 1861г. польскими студентами Петербургского университета и Медико-хирургической академии в римско-католической церкви св. Екатерины. На самом деле панихида с пением церковных песнопений имела отношение к погибшим 15 февраля при расстреле демонстрации в Варшаве. На панихиде в костеле присутствовали и православные студенты, а многие, если верить Л. Ф. Пантелееву-мемуаристу, в знак солидарности с товарищами-поляками вписались в ведомость инспектора как бывшие в костеле, хотя они там не были. Панихида, заказанная студентами, оказалась многолюдной, поскольку в числе участников «находились знакомые и приятели многих из студентов». И хотя, как доносила полиция, кроме многоголосого пения молитвы Angelus Domini, «никаких слов против религии, правительства и духовенства» в храме не произносилось, правительство было встревожено массовым и откровенно патриотическим характером акции [РГИА. Ф. 733. Оп. 27. Д. 244].
В существенной степени отношение студентов к вере зависело от качества преподавания богословских дисциплин в университете. Что касается законодательных рамок преподавания православного вероучения, то они несколько раз менялись, но важность самого предмета ни у кого не вызывала сомнений. Еще в 1811г. попечитель столичного учебного округа С. С. Уваров озаботился правильной постановкой преподавания богословия «в том важном месте, каков Педагогический институт, где готовятся наставники юношества», и представил министру А. К. Разумовскому проект на этот счет [РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 103. Л. 4–6]. В проекте предполагалось, что лекции по богословию должны включать не только начальные знания всеобщего богословия, но и «энциклопедическое обозрение всех наук, полный богословский курс составляющих». Студенты должны были постигать всеобщую историю христианской Церкви, в особенности российской, а также историю и суть «различных догматов христианской Церкви». Идею усилить и упорядочить преподавание Закона Божия Уваров аргументировал тем, что «воспитанники обучались до этого в разных училищах и потому приобрели различные познания в данном предмете». В курсе предполагалось также изучение книг Ветхого и Нового завета, «с изъяснением истинного смысла и духа его», изучение пространного катехизиса и «познание первых начал богословия». Главная цель столь обширного богословского курса виделась Уварову в том, чтобы «показать, насколько возможно превосходство изучаемой ими православной религии», поскольку «Закон Божий есть душа истинного просвещения» [ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 459. Л. 18]. К преподавателю богословия Уваров предъявлял самые высокие требования: «Преподающий должен сам быть убежден в святости религии, чувствовать всю важность возложенной на него обязанности, должен быть убежден, что одна только история Церкви может пролить свет на всемирную историю» [РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 103. Л. 6-7]. Преподавая богословие, он «передаст им (слушателям. — Т. Ж., А. А .) свое собственное уверение и возбудит в них надлежащее уважение к столь важной отрасли человеческого познания» [РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 103. Л. 7].
Проект Уварова был одобрен министром, в Педагогический институт был определен законоучитель. В 1816 г. по решению митрополита Новгородского и С.-Петербургского Амвросия им стал священник Владимирской церкви и магистр Славяно-греколатинской академии Симеон Платонов [РГИА.Ф.733. Оп.20. Д.102. Л.269-275]. Законоучителем в университетском Благородном пансионе был А. И. Малов, впоследствии протоиерей и настоятель Исаакиевского собора. В феврале 1819 г., почти одновременно с преобразованием Главного педагогического института в университет, должность законоучителя в нем принял на себя иерей Казанского собора Г. П. Павский [ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 2315. Л. 16 об.].
В феврале 1819 г. были внесены новые поправки в порядок преподавания богословия, предусмотренный университетским уставом 1804 г. Согласно циркуляру министра А. Н. Голицына, во всех университетах должны были открыться кафедры богопознания «…для приобретения сведений в богопознании и христианском учении толико существенных и необходимо нужных для каждого человека вообще» [РГИА. Ф. 732. Оп. 2. Д. 61. Л. 1–2; Сборник распоряжений, 1866, 347–348]. Богословие интерпретировалось как совокупность внерациональных основ «истинного просвещения» и основа изучения специальных наук.
Мистическая религиозность и произвольное расширение границ христианского просвещения закончились вместе с министерством Голицына. Тогда же церковные иерархи начали получать звание почетных членов университета наравне с европейскими учеными и гражданскими сановниками. Так, в 1829 г. в этом статусе были утверждены митрополит Новгородский и С.-Петербургский, Эстляндский и Финляндский Серафим, митрополит Киевский и Галицкий Евгений, митрополит Московский и Коломенский Филарет [ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1705. Л. 1].
После недолгого увлечения в последние годы царствования Александра I экуменизмом и поисками веры «внутренней» было восстановлено традиционное понимание православного вероучения. Согласно уставу 1835 г., было унифицировано и преподавание богословия. Во всех российских университетах учреждалась кафедра «догматического и нравоучительного богословия, церковной истории и церковного законоведения» (§ 14). Она не принадлежала ни одному факультету, но посещение лекций богословия было обязательным для всех студентов греко-российского вероисповедания [Андреев, Цыганков, 2016, 50]. Студенты всех факультетов должны были изучать богословие теоретическое и практическое, церковную историю (общую и российскую), а студенты юридического факультета еще и церковное законоведение.
Для преподавания богословия студентам-лютеранам в университете, как и в Главном педагогическом институте, предусматривалась отдельная должность в штате. В 1840-х гг. в Главном педагогическом институте ее занимал Л. Е. Блум, принятый сначала адъюнктом немецкой словесности. Прот. В. Бажанов был одновременно законоучителем в университете и в Главном педагогическом институте [Курылев, Жуковская, 2019, 140–143].
По мере углубления академических интересов студентов в сфере естественных и общественных дисциплин менялось их отношение к обязательному курсу теоретического и практического богословия, оно становилось все более скептическим. Это требовало от преподающего разделы богословских наук нравственного авторитета, эрудиции и высочайшей специальной подготовки. Насколько соответствовали этим требованиям университетские преподаватели богословия, которые, конечно же, не были для университета людьми случайными?
Недавно в статье наших коллег было высказано утверждение, что преподавание богословия в университете развивалось от «охранительного начала», присущего ему в дореформенное время, к просветительскому, доходя до «сакрализации научного знания как способа достижения „общего блага“» [Ростовцев, Сидорчук, 2019, 157–158]. Эту мысль трудно принять тем, кто считает, что затруднительно исчерпывающе «согласить веру и ведение». Как бы то ни было, успехи науки заставляли университетских богословов быть более гибкими, учитывая критический настрой аудитории. Но вопрос о том, превращать ли их в «сотрудников» ученых на поле науки, остаётся открытым. Чтобы внести в него ясность, нужно представлять направление развития университетского курса богословия, облик самих законоучителей и отношение слушателей к этому предмету. Это возможно сделать, опираясь на характеристики, данные мемуаристами нескольких поколений богословию как преподаваемому предмету и его профессорам.
Среди университетских законоучителей были весьма серьезные ученые, например прот. Герасим Петрович Павский, переводчик и библеист, занимавший университетскую кафедру богословия в 1819–1827 гг. Он был также одним из первых российских гебраистов, признанным знатоком древнееврейского языка [Сухова, 2014]. Профессор еврейского языка С.-Петербургской духовной академии (с 1813), в 1819 г. он был приглашен С. С. Уваровым в университет, только что созданный на базе Главного педагогического института. С его приходом преподавание богословия приобрело философскую и историческую глубину. Кроме догматического и нравственного богословия прот. Г. Павский читал уникальный курс под названием «История постепенного раскрытия религиозных понятий в человеческом роде», или «История развития религиозных идей в человеческом обществе». Фактически это был тип высшего богословского курса для светских слушателей, построенный на историческом подходе к развитию богословия и опередивший свое время на несколько десятилетий [Тихонов, Бильвина, 2009]. Прот. Г. Павский старался в своих университетских лекциях максимально рационализировать вероучение в соответствии с запросами просвещенной аудитории [Барсов, 1880, 111–112] и поместить его в исторический контекст. Эти лекции на несколько лет были исключены Д. П. Ру-ничем из преподавания как не отвечающие задаче «нравственного оздоровления» университета.
Профессора богословия назначались министром народного просвещения по представлению духовного начальства, в отличие от остальных профессоров, чье назначение согласовывалось с попечителем и Советом университета. Профессора богословия, получая по штату суммы в размере жалования экстраординарного профессора, могли восприниматься другими профессорами как коллеги [Ростовцев, Сидорчук, 2019, 157] при обсуждении вопросов преподавания, но испытывали заметное отчуждение в других ситуациях. Законоучитель не признавался вполне «человеком университета», т. е. равным членом корпорации, потому что вне университета у него была особенная жизнь и основная, духовная служба. Преемник Павского прот. В. Б. Бажанов впоследствии был настоятелем дворцовых храмов, духовником Николая I и членов царской семьи, протопресвитером придворного духовенства и обер-священником гвардии. Он жил и действовал в ином социальном окружении и был встроен в систему духовных учреждений.
Ректор университета П. А. Плетнев (сам выходец из духовной среды) в письме Я. К. Гроту в октябре 1840 г. иронически и отчужденно описывает духовенство на именинах прот. В. Бажанова [Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, 1896, 82]. Мемуаристы-профессора вообще редко упоминают своих коллег-законоучителей. Причиной этого умолчания можно считать положение законоучителя как субъекта отдельного от академической корпорации, ее сотрудника, но не сочлена. Кроме того, богословская ученость многими обладателями гражданских ученых степеней не воспринималась как «настоящее» знание. Исключение делалось лишь для прот. Г. Павского, который был признанным знатоком древнееврейской письменности и истории и мог проконсультировать любого университетского филолога. В 1821 г. он получил ученую степень доктора богословия. Во время «дела профессоров» он осмелился защищать К. Ф. Германа, Э. Раупаха, А. И. Галича, К. И. Арсеньева, обвиненных в «пагубных лжеумствованиях».
Свящ. В. Бажанов, сменивший прот. Г. Павского в 1827 г., уступал ему в энциклопедизме, но, по свидетельствам современников, обладал немалым личным и нравственным влиянием на слушателей. Авторитет отца Василия подчеркивает А. В. Никитенко, тогда еще студент: «Привлекательная личность Бажанова, его искусство излагать свой предмет просто и выразительно, стремление к духу, а не к букве — все это хоть немного смягчает для нас потерю Павского. В богословских лекциях наших вообще господствует здравый философский дух, который ставит религию на твердую почву, недоступную для фанатиков. Надо сознаться, что духовные учителя у нас часто преуспевают в науках больше светских профессоров» [Никитенко, 1955, 55].
Другой студент того времени вспоминал: «Преподаванием богословских наук занимался тогдашний настоятель университетской церкви, Василий Борисович Бажанов, нынешний протопресвитер московского Благовещенского собора, духовник Государя императора и главный священник гвардейских корпусов. <™> Преподаванием церковной истории заключился при мне курс богословских наук; с особенною полнотою изложено было профессором о последних днях земной жизни Богочеловека. Лекции об этом приходилось Василию Борисовичу читать нам в 1833 году на Фоминой неделе; особенно много, сколько помню я, собралось к нему студентов не только православных, но и других исповеданий на лекцию 11 апреля. <…> Возражения от студентов на лекциях Василий Борисович выслушивал с терпением и не оставлял без ответов. <™> Усилившиеся в одно время эти возражения были поводом к произнесению профессором в университетской церкви в воскресный день, по окончании литургии, проповеди к студентам, в которой изложены были причины неверия. Вообще Василий Борисович время от времени произносил поучения студентам, отличавшиеся особенной простотою и в то же время согретые теплотою любви, они имели целью врачевать душевные недуги его слушателей и раскрывать пред ними бесконечное милосердие Божие, являемое всем и каждому» [Фортунатов, 1869, 7–10].
Заметим, эта характеристика не вполне обычна. Она принадлежит питомцу историко-филологического факультета Ф. Н. Фортунатову. Так подробно, как он, никто из мемуаристов не излагает суть преподаваемых богословских дисциплин и внеаудиторное взаимодействие законоучителя со студентами (в данном случае — чтение им проповеди в храме). Видно, что, происходя сам из духовной среды, Фортунатов смог поддерживать в себе интерес к богословию в течение всех двух лет его преподавания, установил и сохранил глубоко личные отношения с наставником. Однако такое отношение было далеко не преобладающим среди студентов 1830-х гг.
Ф. Н. Фортунатов показывает, что к законоучителю как одновременно пастырю и духовному отцу студенты обращались за жизненным советом. «И горем и радостью делились мы с нашим законоучителем, обращаясь к нему в часы недоумений и тревог душевных, — пишет мемуарист. — И за стенами университета, через много, много лет, бывшие его ученики находили у него благовременную помощь в разных невзгодах житейских» [Фортунатов, 1869, 10–11].
С 1836 г., когда о. В. Бажанова на кафедре богословия сменил протоиерей Казанского собора А. И. Райковский, богословие стало преподаваться более формально, в виде «потоковых лекций» и, по впечатлениям слушателей, превратилось в монотонное чтение или «набор бесцветных фраз, нравоучений, сказанных без всякой системы и толку… Все студенты поголовно относились с нескрываемым равнодушием, чтобы не сказать с пренебрежением, к лекциям протоиерея Райковского, читавшего церковно-библейскую историю и догматическое и нравственное богословие» [Колмаков, 1891, 458]. Это продолжалось целых 20 лет — ровно столько прослужил Райковский в университете.
«После Павского и Бажанова, — пишет современник и официальный историк университета В. В. Григорьев, — преподавание о. Райковского казалось сухим, холодным, не соответствующим высоте университетской науки» [Григорьев, 1870, 132]. В Рай-ковском студентам «претило высокомерие, при очень небольшом интеллектуальном багаже. Ничего подобного „теплому“ семейному наставлению в вере, как от Бажанова, от него невозможно было получить™ Понятно, что на лекциях этого бездарного профессора обыкновенно присутствовало не более 2-3 десятков слушателей, и то по большей степени из казеннокоштных студентов, находившихся под бдительным контролем инспектора, тогда как посещение богословских лекций было обязательно для студентов всех трех факультетов. Неуклюжая фигура и смешные манеры Райковского подавали повод к насмешкам» [Колмаков, 1891, 459–460]. Некоторые студенты, особенно из числа бывших семинаристов, способны были поставить профессора в тупик «щекотливыми вопросами», эти пикировки разнообразили скучные лекции, но не прибавляли интереса к предмету преподавания. После ликвидации кафедры философии в 1850 г. Райков-скому было поручено читать студентам также логику и психологию.
Недолгое оживление в преподавание богословия в университете внес свящ. И. Л. Янышев, через два года, в 1858 г., его сменил на кафедре магистр богословия прот. В. П. Полисадов. Вот что пишет о нем Л. Ф. Пантелеев: «Богословие читал протоиерей Полисадов; он только что в этот год заместил протоиерея Янышева. Так как богословие было обязательным предметом для студентов первого курса всех факультетов, да еще нового профессора желали послушать и старые студенты… Довольно много времени Полисадов уделил взаимному отношению философии и религии; он говорил, что истинная философия не может быть враждебна религии, но когда перешел к историческому обозрению философии, то оказывалось, что хотя все важнейшие философы, до Гегеля включительно, старались укрепить религию, однако их системы в конце концов всегда приводили к противуположному результату и потому что они пытались строить их на основаниях, не зависимых от Откровения» [Пантелеев, 1958, 139].
Однако законоучитель должен был не только излагать церковную историю и катехизис, но наставлять в вере и воспитывать, что далеко не все взрослые люди 18–22 лет могли сносить без внутреннего ропота. Попытки соединить духовную проповедь с политической пропагандой в духе уваровской триады, привычные в 1830–40-е гг., в аудиториях второй половины 1850-х гг. звучали анахронизмом и еще больше отвращали молодежь от проповедников. Столь же безуспешными смотрелись попытки «разоблачения» с позиций догматического богословия новейших философов и естествоиспытателей. Мемуаристы сообщают, что обширные общие аудитории, где читалось богословие для всех курсов, были наполовину пусты, а студенты ходили на лекции по очереди. При этом сдача экзамена по богословию, как переводного, при переходе с первого курса на второй, так и итогового, была непростой. По богословию, предмету общему для всех факультетов, претендующий по окончании университета на ученую степень кандидата не мог иметь менее четырех баллов, а действительный студент — менее трех баллов [Сборник постановлений, 1864, 754]. Это ограничение демонстрирует повышенное внимание, с которым Министерство народного просвещения относилось к религиозному воспитанию учащихся.
Вопрос об актуальности и глубине преподавания богословия в университете взрослым людям, после довольно объемного гимназического курса, дискутировался в период подготовки университетского устава 1863 г. Но уже в 1840-х гг. многие из слушателей богословского курса сомневались в его полезности и необходимости учить «вразбивку» части Символа веры. Однако обязательность преподавания богословия была сохранена, вопреки критическим оценкам некоторых экспертов. Не были услышаны замечания Н. И. Пирогова, высказанные в 1862 г. по поводу проекта университетского устава: «Страшно ошибаются те, которые думают обязательным преподаванием богословия сделать учащихся нравственнее и предохранить их от материализма и безверия. Это дело задушевных теплых религиозных убеждений, внутренних, с колыбели, или вызванных из души превратностями жизни, — а не дело науки» [Замечания на проект общего устава, 1862, 6].
Специального разбора также заслуживает феномен «неверия» представителей академической корпорации. Пропаганда религиозного вольнодумства с профессорских кафедр была предметом внесудебных разбирательств во время так называемого «дела профессоров» Петербургского университета 1821 г., но фигура обвинения оказалась надуманной, а сам этот университетский конфликт инспирированным представителями консервативной «партии» в руководстве просвещением [Жуковская, 2019].
Об идейных траекториях профессоров от веры к неверию, с возможностью объяснить феномен отпадения от Церкви, можно говорить не ранее последней трети XIX — начала XX в., времени бурного распространения естественнонаучного знания, материализма, а также политизации вопросов веры. Так, в феврале 1912 г. профессор чистой математики и академик А. А. Марков (1856–1922) обратился к Св. Синоду с прошением «об отлучении его от Церкви ввиду того, что он отрицательно относится к сказаниям, лежащим в основе еврейской и христианской религии, не усматривает существенной разницы между иконами и мощами, с одной стороны, и идолами — с другой, и не сочувствует православной вере» [РГИА. Ф. 796. Оп. 195. Д. 1468. Л. 1]. Митрополит С.-Петербургский и Новгородский Антоний (Вадковский) предписал «произвести пастырские увещания и вразумления» академику Маркову. Священник Философ Орнатский, несмотря на большой миссионерский и проповеднический опыт, в письме, адресованном академику, не смог убедить его изменить радикальное решение. Марков отказался от «бесед, которые не могут принести никакой пользы ни мне, ни моему собеседнику, а могут вести только к напрасной потере времени и к взаимному раздражению» [РГИА. Ф. 796. Оп. 195. Д. 1468. Л. 4–5]. После этого Синод принял решение «г. Маркова считать отпавшим от Церкви и подлежащим исключению из списков лиц православных» [РГИА. Ф. 796. Оп. 195. Д. 1468. Л. 3]. Советские историки связывали поступок ученого с делом об отлучении Льва Толстого и тем самым политизировали атеизм А. А. Маркова [Дело об отлучении, 1954, 397-411]. Но уточнение времени и обстоятельств отлучения академика позволяет говорить, что это было независимое решение, которое стало итогом мировоззренческих исканий ученого, начатых в церковном окружении (Марков был внуком священнослужителя). Многие современники и коллеги А. А. Маркова, особенно естественники, придерживались подобных взглядов или позиций религиозного индифферентизма, не переходя к публичному обсуждению вопросов веры. Однако для их предшественников, профессоров дореформенного университета, даже помыслить о добровольном расцерковлении или демонстрации неверия было невозможно. Опыт В. С. Печерина, выпускника Петербургского университета, подготовленного к профессуре за границей, который покинул Россию и сначала перешел к религиозному отрицанию, а затем принял сан и вступил в радикальный католический орден редемптористов [Печерин, 2011], — представляется уникальным для второй половины 1830-х — 1840-х годов.
Почему за несколько десятилетий академическое сообщество настолько изменилось? Сыграло ли свою роль бурное развитие точных и естественных наук, изменение общественных настроений, возможность выбора идейной эмансипации как модели поведения? Ответы на эти вопросы приходится искать в истории университета дореформенного времени.
В студенческой среде, особенно столичной, начиная с 1860-х гг. и увлечения «нигилизмом» и естественными науками, отрицание Бога зачастую считалось признаком хорошего тона, своеобразной студенческой модой. Университетские студенты следующего поколения были и вовсе «безрелигиозны», судя по студенческим са-мопереписям и анкетам. Письменный опрос учащихся высших технических вузов, проведенный в начале XX в., показал, что подавляющее большинство их сознавалось в полном своем безверии [Тихонов, Бильвина, 2009, 87]. То есть религиозность студентов Политехнического и Технологического институтов была еще более зыбкой, в сравнении со студентами университета. Убедительные данные о дрейфе студенчества в сторону безрелигиозности именно во время обучения дает университетская статистика начала XX в., полученная путем студенческих «самоперепи-сей». Причем те, кто называл себя в анкетах верующим, чаще всего подразумевали не догматическое вероучение, а веру в личного Бога.
Под «личным Богом» вслед за А. Е. Ивановым [Иванов, 2010, 273–284] следует понимать религиозное миросозерцание студента любой конфессии. Более или менее корректные сведения можно получить только о студентах православного исповедания, которые составляли в 1905 г. абсолютное большинство во всех университетах (77,4% студентов Московского университета и 93% студентов Казанского). По результатам анкетирования, опубликованным представителем Русского Общества охраны народного здравия доктором Е. П. Радиным, среди петербургских студентов-технологов 39,4%, а среди студентов-политехников всего 23,4% признавали существование «личного Бога». Соответственно 46,2% и 48,3% не признавали его, остальные объявляли себя «сомневающимися» [Радин, 2013; Иванов, 2010, 276]. Всего было проанкетировано 2118 студентов, из них 872 студента университета. Таким образом, исследование «душевного настроения» студентов начала XX в. выявило равнодушие большинства к вопросам веры. Это равнодушие не зависело от конфессиональное™. Так, в Дерпт-ском университете по анкетам 1907 г. среди православных студентов 54,5% «не признавало своей религии», 28,7% признавало с поправками, вполне признавали только 10,1%. Среди студентов отрицали бытие Бога 33,2%, признавали — 33,3%. Доминировали воззрения «с большей или меньшей примесью атеизма» [Ростовцев, Сидорчук, 2019, 156]. Автохарактеристики студентов, полученные независимыми наблюдателями, гораздо точнее передают их настроения, чем официальные отчеты и ведомости предыдущих десятилетий.
Что касается Петербургского университета, то учитывая наличие в нем незначительной доли «гуманитариев» по сравнению с естественниками и юристами, можно предполагать, что их отношение к вере не существенно отличалось от студентов Технологического института. Однако те примерно 30% учащихся, кто оставался крепок в вере, были способны глубоко и эмоционально аргументировать свою позицию, со ссылками на философскую и богословскую литературу. Это была не формальная «воцерковленность», а гармоничное мировоззрение интеллектуалов, связывавших веру в Бога с нравственным фундаментом человечества. «Безбожники» в аргументации своей позиции были менее красноречивы.
Расцерковление православного студенчества происходило почти стихийно, без серьезных контраргументов богословским учениям, под влиянием личного опыта и коллективной модели поведения. Многие еще до того, как переступили порог университета, т. е. в гимназии, были «отвращены» от живой религиозности сухим догматическим преподаванием православного вероучения, того, «что преподаваться не может» [Иванов, 2010, 279]. Выходцы из духовной среды, бывшие семинаристы, дополняли свои идейные разногласия с догматическим вероучением протестом против «принуждения к знанию», долгих служб на фоне грубости нравов и скудости семинарской жизни. Многие бывшие семинаристы при этом переживали конфликт с семьей. Среди этой категории молодых людей, переменивших духовную школу на светскую и избравших юридический факультет Казанского университета, приверженность традиционному православию сохранили только 9,3% опрошенных. Наибольший процент верующих респондентов обнаруживался на историко-филологических факультетах всех университетов.
Более того, студенты хотели видеть и уважаемых ими профессоров далекими от традиционной религиозности и присущих ей привычек. Н. И. Костомаров в своей автобиографии приводит следующий эпизод, относящийся к 1860 г.: «Еще в предшествовавшем году после Святой недели ко мне явилась странная депутация из студентов с требованием объяснения: что значит, что они видели меня в день Великой Субботы прикладывавшимся к плащанице и причащавшимся Св. Тайн. „Неужели, — спрашивали они, — я поступал с верою?“ Я отвечал им тогда же, что ничто не дает им права вторгаться в мою духовную жизнь и требовать от меня отчета, а их вопрос, поступал ли я так с верою и сознанием, меня огорчает потому, что я не из таких людей, которые бы без веры и убеждения притворялись для каких-то посторонних целей в священной сфере религии. Студенты объяснили, что они обратились ко мне с таким вопросом оттого, что мои лекции, пропитанные свободными воззрениями, слушанные ими долгое время, не заключали в себе ничего такого, после чего можно было бы ожидать от меня уважения к церковным обрядам, свойственного необразованной толпе. На это я заметил им, что читал им русскую историю, а не церковную и еще менее богословие, следовательно, не мог по совести высказать им относительно своей собственной веры никаких ни приятных для них, ни неприятных убеждений; если же, по их словам, мои лекции отличались свободными воззрениями, то это одно понуждает меня требовать от них уважения к свободе совести. Я прибавил, что если меня возмущали и теперь возмущают темные деяния католической инквизиции, преследовавшие безверие, то еще более возмущала бы наглость безверия, преследующая, как нравственное преступление, всякое благочестивое чувство. „Если вы, господа, сторонники свободы, то научитесь сами уважать ее для тех мнений, которые вам не нравятся и которых вы опровергнуть положительно научным способом не в состо-янии“» [Костомаров, 1922, 299–300].
Личный путь религиозной трансформации бывшего семинариста красноречиво описывает студент юридического факультета 1870-х гг. Н. Бабин. Воспитанный в религиозной среде, он не сохранил «любви и усердия к святыне Божией», поддавшись коллективным настроениям. В зрелые годы он признавал: «Если… принять во внимание растлевающее влияние на молодой и незрелый ум свободно циркулирующих, но недостаточно нравственных и религиозных книг и притом цензурных, то будет понятно, что с каждой такой книгой, хотя бы и цензурной, я все более и более набирался разных фанаберий, от которых гибло в былую пору много молодых людей». Поступление в университет углубило «злополучный дух сомнения». Н. Бабин свидетельствует: «В наше время среди массы других предметов Закон Божий в университете почти прямо игнорировался; непосещение учащими и учащимися церкви Божией было нередким явлением, посты соблюдались лишь на половину, учителя и воспитатели оказывались сами не проникнутыми духом православной веры и благочестия и относились к молитве и богослужению как к простой лишь формальности. На лекции мы еще ходили, но в церковь почти никогда, кроме чрезвычайно редких официальных случаев, да и то не всегда, и когда лишь захочется. О говении и приобщении Святых Таин не было и речи. Правда, в расписании читавшихся предметов значилось основное богословие, на лекциях его я, по примеру своих товарищей, ни разу не бывал, и самых лекций до экзамена, и то уже при самом окончании курса, совсем не читал. Но за то вместо богословия каких только я в Петербурге среди товарищей не наслушался теорий и гипотез! Человека, например, этого царя видимой природы и сотворенного по образу и подобию Божию, производили из царства животных, творение мира приписывалось не всемогущему Творцу и Промыслителю, а природе…» [Бабин, 1895, 99–101]. Мемуарист рассказывает об университете 1870-х гг. Можно полагать, что дрейф студенчества к безрелигиозности начался гораздо раньше, еще в 1830–1840-е гг., по мере роста численности студентов и складывания собственной студенческой корпоративности (идентичности, субкультуры), внутри которой традиционные духовные практики (молитва, посещение храма, соблюдение обрядов) отодвигались за границы принятого в студенческой субкультуре образа поведения.
Однако, изучая историю российских университетов и культурные практики университетских сообществ, мы не можем говорить о «тотальном безверии» студенчества и преобладании неверия среди профессуры в какой бы то ни было исторический период. К автохарактеристикам из студенческих анкет 1910-х гг. следует подходить критически, учитывая способ их получения в форме «самопереписей», при котором анкетируемый представал не индивидуальностью, а частью сообщества, в существенной степени зависимым от доминирующего в данной субкультуре габитуса (нормативного образа поведения). По мере политизации университетских отношений радикализм общественно-политических взглядов части универсантов, безусловно, переходил и на вопросы веры. Но сама по себе атеистическая повестка не была актуализирована в стенах университета. По крайней мере, демонстрация неверия (как и, наоборот, истовой религиозности) не была принята в академической среде, со свойственным ей уважением к чужому выбору. Особыми настроениями были отмечены 1860-1870-е гг., с всеобщим увлечением естественными науками (что блестяще отразил И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети»). В данном случае мы имеем дело со сменой стиля мышления и объяснения мира, пробуждением интереса к научно-философским проблемам, который не мог быть массовым. Массовой была лишь мода на рационализм и дарвинизм, которая проходила с возрастом и опытом. Восприимчивая студенческая среда остро реагировала и на смену общефилософской парадигмы. При этом рядом с проявлениями атеизма в академической среде на рубеже XIX и XX вв. зарождается и достигает расцвета феномен русской религиозной философии, который органично воспроизводится университетской культурой.
Список литературы О религиозности университетского человека, ее основаниях и трансформациях (на материалах Санкт-Петербургского университета XIX века): к постановке проблемы
- Бабин (1895) — Бабин Н. Посвящение в сан диакона бывшего мирового судьи // Пермские епархиальные ведомости. 1895. № 5. С. 99-101.
- Костомаров (1922) — Автобиография Н. И. Костомарова / Под ред. В. Котельникова. М.: Задруга, 1922. 441 с.
- Дело об отлучении (1954) — Дело об отлучении от церкви академика А.А. Маркова (документы и публикации) // Вопросы истории религии и атеизма: Сб. статей. Вып. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 397-411.
- Замечания на проект общего устава (1862) — Замечания на проект общего устава императорских российских университетов. СПб., 1862. Ч. 1. 486 с.
- Инструкция инспектору студентов (1844) — Инструкция инспектору студентов Императорского Санкт-Петербургского университета. СПб., 1844. 23 с.
- Колмаков (1891) — Очерки и воспоминания Н.М.Колмакова // Русская старина. Т. LXX. 1891. № 4-6. С. 23-43, 449-469, 657-679.
- Никитенко (1955) — НикитенкоАВ. Дневник: в 3 т. Т.1: 1826-1857 / Подг. текста, вступ. статья и прим. И. Я. Айзенштока. М.: ГИХЛ, 1955. 542 с.
- Один из птенцов Института (1904) — Один из птенцов Института. Из воспоминаний о Главном педагогическом институте // Русская школа. 1904. № 10-11.
- Пантелеев (1958) — Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. Т.1 / Подг. текста и прим. С. А. Рейсера. М.: ГИХЛ, 1958. 848 с.
- Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым (1896) — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым: в 3 т. СПб.: Тип. М-ва путей сообщения. 1896. Т. 1. 970 с.
- Печерин (2011) — Печерин В. С. Apologia pro vita mea. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим / Отв. ред. и сост. С. Л. Чернов. СПб: Нестор-История, 2011. 862 с.
- Пирогов (1989) — Пирогов Н. И. Из жизни московского студенчества 1820-х годов // Московский университет в воспоминаниях современников: Сборник / Сост. Ю. Н. Емельянов. М.: Современник, 1989. С. 80-89.
- РГИА. Ф. 732 — Российский государственный исторический архив. Ф. 732. Оп. 2. Д. 61: Об учреждении при университетах кафедры по части богопознания (1819).
- РГИА. Ф. 733а — Российский государственный исторический архив. Ф. 733. Оп. 20. Д. 102: О преобразовании Педагогического Института и переименовании его в Главный педагогический институт.
- РГИА. Ф. 733b — Российский государственный исторический архив. Ф. 733. Оп. 20. Д. 103: Об утверждении расписания занятий в Педагогическом институте и об изменениях в учебном курсе, по предложению попечителя Петербургского учебного округа С. С. Уварова
- РГИА. Ф. 733с — Российский государственный исторический архив. Ф. 733. Оп. 27. Д. 244: О панихиде в католическом костеле Св. Екатерины.
- РГИА.Ф.796 — Российский государственный исторический архив. Ф.796. Оп.195. Д. 1468: По прошению академика А. Маркова об отлучении его от Церкви. 1912 г.
- Сборник постановлений (1864) — Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2. Отд. 1. Спб., 1864. 1412 стб.+105 с.
- Сборник распоряжений (1866) — Сборник распоряжений по министерству народного просвещения. Т. 1: 1802-1834. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1866. 1018 стб.+ 43 с.
- Скабичевский (2001) — Скабичевский А.М. Литературные воспоминания. М.: Аграф, 2001. 432 с.
- Уложение о наказаниях (1988) — Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Раздел 2, гл. 2: Об отступлении от веры и постановлений церкви // Российское законодательство X-XX вв. Т. 6: Законодательство первой половины XIX века. М.: Юридическая литература, 1988. С. 160-408.
- Фортунатов (1869) — Фортунатов Ф.Н. Воспоминания о С.-Петербургском университете за 1830-1833 годы: По поводу пятидесятилетнего его юбилея. Писано в ноябре 1868 г. М.: Тип. Т. Рис, 1869. 36 стб.
- ЦГИА СПб. Ф. 13 — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1705: Об утверждении в звании почетных членов СПб. Университета. 1829.
- ЦГИА СПб. Ф. 139a — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 139. Оп. 1. Д. 2315: Мемории Конференции. 1819.
- ЦГИА СПб. Ф. 139b — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 139. Оп. 1. Д. 4122: О порядке хождения воспитанников в церковь. 1826.
- ЦГИА СПб. Ф. 139c. — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 139. Оп. 1. Д. 459: О расписании учебных предметов. 1811.
- Андреев, Цыганков (2016) — АндреевА.Ю., ЦыганковД.А. Преподавание церковно-богословских дисциплин и подготовка историков в Императорском Московском университете // Вестник ПСТГУ: История. 2016. № 1. С. 45-64.
- Барсов (1880) — Барсов Н.И. Протоиерей Герасим Петрович Павский // Русская старина. 1880. № 1.
- Вишленкова, Малышева, Сальникова (2004) — ВишленковаЕ.АМалышеваС.Ю, Сальникова А. А. Terra universitatis: два века университетской культуры в Казани. Казань, 2005. 498 с.
- Григорьев (1870) — ГригорьевВ.В. Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. Историческая записка. СПб., 1870. 669 с.
- Жуковская (2019) — Жуковская Т.Н. «Дело профессоров» 1821 года в Петербургском университете: новые интерпретации // Ученые записки Казанского университета. Сер. гуманитарных наук. 2019. Т. 161. Кн. 2-3. С. 96-112.
- Жуковская (2010) — Жуковская Т.Н. Петербургский университет в городском пространстве первой трети XIX в. // Социальная история. Ежегодник. 2009 / Отв. ред. Н. Л. Пуш-карева. СПб.: Алетейя, 2010. С. 41-67.
- Жуковская (2002) — Жуковская Т. Н. Правительство и общество при Александре I: Учебное пособие к спецкурсу. Петрозаводск, Изд-во ПетрГУ, 2002. 222 с.
- Иванов (2010) — Иванов А.Е. Мир российского студенчества. Конец XIX — начало XX века. Очерки. М.: Новый хронограф, 2010. 333 с.
- Курылев, Жуковская (2019) — Курылев С.А., Жуковская Т.Н. Главный педагогический институт (1828-1859): проблемы административной и социальной истории // Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. Т. 10. № 7 (17). 2019. С. 130-143.
- Марголис (1983) — Марголис Ю.Д. Т.Г. Шевченко и Петербургский университет. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 152 с.
- Радин (1913) — Радин Е. П. Душевное настроение современной учащейся молодежи по данным Петербургской общестуденческой анкеты 1912 года: Психологическая и социологическая самооценка. Разочарованность. СПб.: Тип. Н. П. Карбасникова, 1913. 122 с.
- Ростовцев, Сидорчук (2019) — Ростовцев Е. А., Сидорчук И. В. «Ничто земное не существует без небесного»: к истории преподавания богословия в Петербургском университете // Клио. Журнал для ученых. 2019. № 10 (154). С. 152-158.
- Сетевой биографический словарь профессоров (2012-2021) — Сетевой биографический словарь профессоров и преподавателей Санкт-Петербургского университета (1819-1917) / Ред. коллегия: Р. Ш. Ганелин, А. Ю. Дворниченко (отв. ред.), Т. Н. Жуковская, Е. А. Ростовцев (отв. ред.), И. Л. Тихонов. Авторский коллектив: А. А. Амосова, В. В. Андреева, Д. А. Баринов, Ю. И. Басилов, А. Б. Богомолов, А. Ю. Дворниченко, Т. Н. Жуковская, А. Л. Корзинин, Е. Е. Кудрявцева, С. С. Мигунов, И. А. Поляков, И. П. Потехина, Е. А. Ростовцев, А. А. Рубцов, И. В. Сидорчук, А. В. Сиренов, Д. А. Сосницкий, И. Л. Тихонов, А. К. Шагинян, В. О. Шишов, Н. А. Шереметов. URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/ biografika/ppl.html (дата обращения: 15.07.2021).
- Сухова (2014) — Сухова Н. Ю. «Дело протоиерея Герасима Павского»: проблема «историзма в русской библеистике // Филаретовский альманах. М.: ПСТГУ. 2014. № 10. С. 88-107.
- Тихонов, Бильвина (2009) — Тихонов И.Л., Бильвина О.Л. Кафедра богословия Императорского Санкт-Петербургского университета // Храм духа в храме науки: Материалы юбилейной конференции, посв. 170-летию университетского храма. СПб., 2009. С. 57-90.