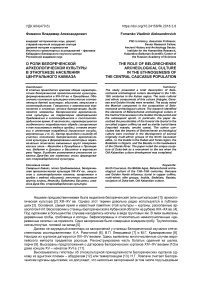О роли белореченской археологической культуры в этногенезе населения Центрального Кавказа
Автор: Фоменко Владимир Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье приводится краткая общая характеристика белореченской археологической культуры, формировавшейся в XIII-XV вв. в Прикубанье. Обозначены основные культурно-этнические составляющие данной культуры: адыгская, генуэзская и золотоордынская. Говорится о мамлюкском компоненте в сложении этноса белореченцев. Выделяются элементы белореченской археологической культуры на территории Центрального Предкавказья в золотоордынское и постзолотоордынское время. В частности, характеризуются особенности погребального обряда (захоронения в так называемых медных гробах), а также аналогии в инвентаре погребений (привозные сосуды, амулетницы и т. д.). Автор приходит к выводу об участии носителей белореченской археологической культуры в формировании некоторых первоначально этнически смешанных групп северокавказских элит - Иналидов в Прикубанье и Притеречье, Баделят в Дигории и Басиатов в верховьях реки Черек. В работе упоминается уникальное изваяние Дука-бек как памятник эпохи формирования старокабардинской культуры.
Северный кавказ, эпоха средневековья, белореченская археологическая культура xiii-xv вв, генуэзское и золотоордынское влияние, захоронения в гробах с медной обшивкой, этнически смешанные группы элиты, иналиды, баделята, басиаты, изваяние дука-бек, старокабардинская культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14941467
IDR: 14941467 | УДК: 904(470.6) | DOI: 10.24158/fik.2018.3.8
Текст научной статьи О роли белореченской археологической культуры в этногенезе населения Центрального Кавказа
Нашими предшественниками была выделена белореченская (или шитхальская [1]) археологическая культура [2] XIII–XV вв. Однако этот термин довольно редко используется в публикациях [3]. Основной, самый яркий и известный памятник этой культуры – курганы, раскопанные археологом Н.И. Веселовским у станицы Белореченской в Кубанской области на рубеже XIX–XX вв. [4]. Под курганами в большинстве случаев находились могилы в виде грунтовых ям. В ямах выявлены деревянные гробы, гробовища и колоды. Зафиксированы и относительно немногочисленные «деревянные склепы» на горизонте. Одно захоронение было совершено в медном гробу. Трупоположе-ния вытянутые, головой на запад [5].
Далеко не заурядный инвентарь из захоронений у станицы Белореченской изучался отечественными исследователями: К.А. Ракитиной [6], В.П. Левашевой [7] и М.Г. Крамаровским [8]. Находки из курганов датируются XIII–XV веками. Здесь выявлены многочисленные случаи европейского импорта предметов роскоши. Реконструирована часть богатых одеяний из шелка, парчи [9]. Высказаны предположения о датировке Белореченских курганов XIV–XV веками [10] и даже концом XV – началом XVI в. [11].
Высказывались гипотезы об этнокультурной принадлежности Белореченских курганов одному из адыгских племен – абадзехам [12] или темиргоевцам [13]. Н.Г. Ловпаче считает Белореченские курганы адыгскими, но допускает, что несколько захоронений (в том числе под сырцовым сводом) могут быть связаны с «монголо-татарами» [14]. Авторы недавней публикации об одном из самых выразительных комплексов Белореченских курганов считают, что погребение в кургане № 1 (1897) принадлежит знатному золотоордынскому воину из числа «местной элиты, составлявшей часть командного состава войска улуса Джучи» [15]. Обычно современные исследователи считают белореченские погребения адыгскими (черкесскими) [16] без привязки к конкретному субэтносу. Существуют и другие предположения по данному вопросу [17].
С белореченской культурой связывают также материалы Борисовского, Убинского, Псекупс-ских могильников [18]. Кроме того, на Северо-Западном Кавказе известно множество других погребальных памятников, близких в этнокультурном отношении. В.А. Кузнецов с Белореченскими курганами связывает упоминаемое в европейских источниках XV–ХVI вв. княжество Кремух. Также с населением этого адыгского феодального владения археолог связывает открытые в XIХ в. у реки Белой руины церкви Святого Георгия [19].
В итоге об этнокультурной принадлежности Белореченских курганов можно сказать, что феодальная знать, оставившая эти памятники, была полиэтничной, что нашло отражение в погребальном обряде и инвентаре. Основные составляющие формирующегося этноса «белоречен-цев»: адыгская, генуэзская и золотоордынская. Местное население Северо-Западного Кавказа в ХIII–XV вв. испытывало сильное культурное влияние ордыно-латинской контактной области [20]. Для этого периода развития адыгской культуры (что более заметно в погребальной практике) характерно сосуществование и взаимодействие трех религиозных систем: языческой, христианской и исламской. Интересны находки в Закубанье воинских погребений ХIII–XV вв., свидетельствующих о связях местного населения с мамлюками [21]. В целом к финалу золотоордынского периода белореченскую культуру Прикубанья вряд ли можно назвать окончательно сформировавшейся. Вполне вероятно, что этнос «белореченцев» не стал полностью однородным к завершению развития и процветания этой культуры на Северо-Западном Кавказе в конце XV в. Со средой «белореченцев» было связано возникновение в Центральном и Восточном Закубанье династии адыгских князей Иналидов.
В.А. Кузнецов, рассматривая материалы из раскопок Баделятского кладбища [22] у селения Махческ в горах Северной Осетии, нашел аналогии в погребальном инвентаре и обряде мах-ческих могил и захоронений Белореченских курганов XIV–XV вв. Исследователь предположил, что эти факты можно объяснить перемещением в XV в. адыгского населения из Закубанья в Центральное Предкавказье, образованием Кабарды и проникновением отдельных кабардинских феодалов в горные районы (конкретно легендарного Бадела [23] в Дигорскую котловину) [24].
Действительно, элементы белореченской археологической культуры в золотоордынское и постзолотоордынское время фиксируются на территории Центрального Предкавказья. В частности, характерные особенности погребального обряда (захоронения в так называемых медных гробах (гробах с медной обшивкой)), а также аналогии в инвентаре захоронений (футляры-аму-летницы, привозные сосуды и одежда, украшения и т. д.).
Кроме Дигорской котловины (западная часть Северной Осетии) черты белореченской археологической культуры прослеживаются в погребальных памятниках других районов Центрального Предкавказья.
-
1. Заюковский I грунтовый могильник расположен у входа в Баксанское ущелье (Кабардино-Балкария). В 1933–1934 гг. при строительстве Баксанской ГЭС Северо-Кавказской экспедицией ГАИМК (Государственной академии истории материальной культуры) близ селения Заю-ково был частично раскопан бескурганный могильник XIV–XV вв. [25]. Всего было исследовано 18 погребений. В большинстве могил были обнаружены остатки деревянных колод и гробов. Положение усопших вытянутое, на спине, головой на запад с отклонениями. Над некоторыми захоронениями прослежены остатки каменных выкладок. В погребальном обряде отмечено христианское и исламское влияние. Инвентарь захоронений небогат. Футляр-амулетница из погребения № 3 имеет близкую аналогию из находок Н.И. Веселовского в Белореченском кургане № 1 [26].
-
2. Зарагижский курганный могильник XIV–XV вв. находится у входа в Черекское ущелье. Курганы расположены на северо-западной окраине селения Зарагиж. По данным З.В. Доде, этот памятник обследовался в 1993 г. Б.Х. Атабиевым. Материал опубликован частично (отдельные вещи и их реконструкции). Среди находок: мужской головной убор – тюбетейка с кисточкой, пояс из шелка с бронзовыми прорезными бляшками, серебряные пуговицы (семь овальной формы, филигранной работы со вставками из темного камня и бирюзы, восьмая – шаровидной формы, орнаментированная витыми полосами), фрагмент шелкового платья с вышивкой серебряной нитью с позолотой, кожаные сумочки с вышивкой, навершие и декоративные детали женского головного убора [27]. Вещи из комплексов Зарагижского могильника имеют близкие аналогии в Белореченских курганах. Реконструкция женского головного убора с навершием и аналогии, приве-
- денные в монографии З.В. Доде, а также в других исследованиях [28], не убеждают в золотоордынской культурной принадлежности этого и подобных уборов. Скорее всего, подтверждаются предположения о полиэтничности кочевников Предкавказья в ХIII–XV вв. [29] и влиянии золотоордынской моды на костюм местного населения.
-
3. Грунтовый могильник Сухая балка частично исследован на окраине Владикавказа у входа в Дарьяльское ущелье (Северная Осетия). Здесь было зафиксировано девять захоронений. Погребения бескурганные, совершались под каменными вымостками в грунтовых ямах и ямах с подбоями. В шести погребениях прослежены остатки деревянных гробовищ. Погребальный инвентарь нельзя назвать богатым. В женском погребении № 1 среди других вещей найдена серебряная амулетница. Предмет находился в кожаном футляре [30]. По предположению Е.И. Нарожного, могильник оставлен кочевниками, потомками монголов [31]. По нашему мнению, могильник Сухая Балка близ Владикавказа культурно близок Заюковскому I могильнику и вряд ли является кочевническим и тем более связанным с потомками монголов.
Рассмотрение названных выше материалов Заюковского I могильника, Зарагижских курганов, Баделятского кладбища, могильника Сухая Балка позволяет прийти к выводу о проникновении населения – носителей белореченской археологической культуры в предгорные и горные районы Центрального Кавказа.
Элементы культуры Белореченских курганов фиксируются и в плоскостных районах Верхнего Прикубанья, Верхнего Прикумья и Притеречья, что вполне согласуется с гипотезой об участии «белореченцев» в формировании старокабардинской культуры в XIV – начале XVI в. К финалу этого периода, вероятнее всего, относится изготовление уникального изваяния Дука-бек, открытого И.А. Гюльденштетом [32].
Установленные этнокультурные связи Заюковского I могильника, курганов у селения Зара-гиж, некрополя Баделят, могильника Сухая Балка с белореченскими древностями находят некоторые подтверждения в фольклоре местных народов. Очень интересны сохранившиеся до наших дней дигорские и балкарские предания о двух братьях знатного происхождения (родственниках маджарского хана) – Баделе и Басиате – родоначальниках части осетинской и балкарской знати. Оба брата прибыли в горные котловины Центрального Кавказа из бывших золотоордынских владений в Предкавказье (упоминается город или историческая область Маджар). Бадел поселился в Дигории, а Басиат – в Балкарии. Соответственно, феодалы – потомки первого брата стали называться «баделята», а второго – «басиаты». Известны различные варианты преданий о происхождении княжеского рода баделят. Согласно данным осетинского фольклора, от сыновей Бадела и его зятьев произошли фамилии дигорских баделят: Абисаловы, Битуевы, Каражаевы, Ку-батиевы, Тугановы. К баделятам относятся также фамилии Кабановых и Чегемовых [33]. Басиат, получивший власть над частью Балкарии, стал основателем сословия басиатов. От него происходит часть балкарской знати – таубии Абаевы, Джанхотовы, Айдаболовы и Шахановы. Также к басиатам относятся фамилии Амирхановых, Биевых, Боташевых [34]. Неместное (равнинное, поздне- или постзолотоордынское) происхождение имели также балкарские таубии Мисаковы, Жаноковы, Шакмановы, Суюнчевы (Суншевы), Урусбиевы [35]. Фамилии таубиев Барасбиевых, Келеметовых, Кучуковых и Малкаруковых, по преданиям, происходят от абадзехского князя Ан-фако Болотукова, поселившегося в горах [36, с. 64–68].
Таким образом, современные археологические данные позволяют высказать гипотезу об участии носителей белореченской археологической культуры в формировании не только темир-гоевских, бесленеевских и кабардинских Иналидов, но и некоторых других северокавказских элит в Притеречье – Баделят в Дигории и Басиатов в верховьях реки Черек. Как и сама белореченская культура (формирующийся этнос), эти элиты первоначально (в XV–XVI вв.) были этнически неоднородными и, вероятно, имели адыго-генуэзско-ордынское происхождение.
Ссылки и примечания:
Список литературы О роли белореченской археологической культуры в этногенезе населения Центрального Кавказа
- Ловпаче Н.Г. Этническая история Западной Черкесии. Майкоп, 1997. С. 130-146.
- Тэу А. Адыгэмэ ядыщъэ кIэныжъ. Мыекъуапэ, 2011. 128 с.
- Эрлих В.Р. Древности «Долины яблонь». Каталог выставки. М., 2014. С. 48-50.
- Отчет Императорской археологической комиссии (далее -ОАК) за 1896 г. СПб., 1898. С. 2-53.
- OAK за 1897 г. СПб., 1900. С. 17-20.
- OAK за 1906 г. СПб., 1909. С. 95-102.
- OAK за 1907 г. СПб., 1910. С. 85-88.
- Левашева В.П. Белореченские курганы//Труды Государственного исторического музея. М., 1953. Вып. XXII. С. 163-213.
- Ракитина К.А. Группа серебряных украшений из кубанских могильников XIV-XV вв.//Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа. Л., 1940. Вып. III.
- Крамаровский М.Г. Латинская Романия и золотоордынский Крым//Степи Европы в эпоху Средневековья. Донецк, 2000. Т. 1. С. 245-264.
- Крамаровский М.Г. Лигурия -Крым -Северный Кавказ//Эрмитажные чтения памяти В.Г. Луконина. СПб., 1994.
- Крамаровский М.Г. Серебро Леванта и художественный металл Северного Причерноморья XIII-XV вв.//Художественные памятники и проблемы культуры Востока. Л., 1985. С. 152-180.
- Лавров Л.И. Культура и быт народов Северного Кавказа в XIII-XVI вв.//История, этнография и культура народов Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1981. С. 5-7.
- Виноградов В.Б., Нарожный Е.И. Об аналогиях погребальному обряду Белореченских курганов//Материалы и исследования по археологии Кубани. 2002. № 2. С. 148-157.
- Хотко С.Х. Черкесские княжества в XIV-XV вв.: вопросы формирования и взаимосвязи с субэтническими группами//Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8, № 2-1. С. 46-58. http://dx.doi.o DOI: rg/10.17748/2075-9908-2016-8-2/1-46-58
- Горелик М.В., Дружинина И.А. Уникальное погребение воина золотоордынского времени на р. Белой//Батыр. Традиционная военная культура народов Евразии. 2011. № 2. С. 39-63.
- Голубев Л.Э. Адыги в XIII-XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие. Краснодар, 2017. 192 с.
- Виноградов В.Б., Нарожный Е.И., Нарожная Ф.Б. О локализации «области Кремух» и о белореченских курганах//Материал и исследования по археологии Кубани. Краснодар, 2001. Вып. 1. С. 124-137.
- Кузнецов В.А. Забытый Кремух//От Тмутаракани до Тамани: сб. Русского исторического общества. 2002. № 4 (152). С. 206-216.
- Приймак Ю.В. К хронологии османского присутствия в Северо-Восточном Причерноморье (конец XV -первая треть XIX в.). Армавир, 1997. С. 6-7.
- Голубев Л.Э. Мамлюкские гербы из Прикубанья//Историко-археологический альманах. М.; Армавир, 2002. Вып. 8.
- Уварова П.С. Могильники Северного Кавказа//Материалы по археологии Кавказа. М., 1900. Вып. VIII. С. 254-269.
- Гутнов Ф.Х. Бадел генеалогических преданий осетин//Проблемы исторической этнографии осетин. Орджоникидзе, 1988. С. 50-77.
- Кузнецов В.А. Археологические данные о происхождении дигорских баделят//Археология и этнология Северного Кавказа. 2012. Вып. 1. С. 99-109.
- Археологические исследования в РСФСР. 1934-1936 гг. Краткие отчеты и сведения. М.; Л., 1941. С. 233-234.
- Деген-Ковалевский Б.Е. Работа на строительстве Баксанской гидроэлектростанции//Археологические работы академии на новостройках в 1932-1933 гг. М.; Л., 1935. Т. 2. С. 15-17.
- Отчет Императорской археологической комиссии за 1896 г. СПб., 1899. С. 18-19. Рис. 93 а, б, в.
- Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа: очерки истории. М., 2001. 136 с.
- Каримова Р.Р. Элементы убранства и аксессуары костюма кочевников Золотой Орды. Казань, 2013. 212 с. (Археология евразийских степей. Вып. 16).
- Нарожный Е.И. Кочевники Северного Кавказа: этнокультурное представительство и взаимовоздействие (XIII-ХV вв.)//III Международный конгресс «Между Востоком и Западом: движение культур, технологий и империй». Владивосток, 2017. С. 208-215.
- Spinel V. Рецензия: Druzhinina I.A., Chkhaidze V.N., Narozhniy E.J. Nomazii medievali din partea răsăriteană a Mării de Azov = Средневековые кочевники в Восточном Приазовье. Armavir; Moscova, 2011. 266 p.//Arheologia Moldovei. Bucureşti; Suceava, 2014. Bd. ХХХVII. P. 332-335.
- Нарожный Е.И. Средневековые кочевники Северного Кавказа. Армавир, 2005. С. 15-16, 21-42, 92-93, 150-153.
- Güldenstädt J.A. Reisen durch Russland und im Kaukasischen Gebirge. St. Petersb., 1791. T. 2. S. 14-15.
- Батчаев В.М. Маджарцы//Проблемы этнографии осетин. Владикавказ, 1992. Вып. 2. С. 93.
- Марзоев И.Т. Баделята Тугановы//Генеалогия Северного Кавказа. 2002. № 4. С. 88-111.
- Баразбиев М.И. Генеалогические предания о происхождении фамилий высшего сословия Балкарии и Карачая//Генеалогия народов Кавказа. Традиции и современность: материалы междунар. науч.-практ. конф. Владикавказ, 2009. С. 35-38.
- Марзоев И.Т. Привилегированные сословия на Кавказе в XVIII -начале XX в. Владикавказ, 2011. 416 с.