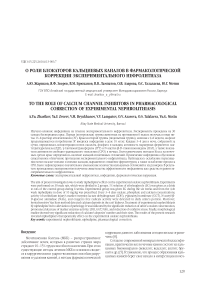О роли блокаторов кальциевых каналов в фармакологической коррекции экспериментального нефролитиаза
Автор: Жариков А.Ю., Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., Лампатов В.В., Азарова О.В., Талалаева О.С., Мотин Юрий Григорьевич
Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk
Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования
Статья в выпуске: 3-1 т.26, 2011 года.
Бесплатный доступ
Изучено влияние нифедипина на течение экспериментального нефролитиаза. Эксперименты проведены на 30 самцах беспородных крыс. Первая (контрольная) группа животных на протяжении 6 недель получала в виде питья 1%й раствор этиленгликоля (ЭГ). Крысам второй группы (подопытная группа), начиная с 4-й недели, на фоне продолжающегося потребления ЭГ вводился нифедипин в дозе 10 мг/кг. Каждые 3-4 дня в моче, собранной за сутки, определялась концентрация ионов оксалата, фосфата и кальция, активность маркерных ферментов: лактатдегидрогеназы (ЛДГ), γглютамилтрансферазы (ГГТ) и N-ацетил-β-D-глюкозаминидазы (НАГ), а также показатели активности свободнорадикального окисления (СРО) в почках. Гистохимическим методом Косса на почечных срезах крыс определялось наличие кальцийпозитивных отложений. Применение нифедипина обусловило существенное облегчение протекания экспериментального нефролитиаза. Наблюдалось ослабление пересыщения мочи оксалатионами и ионами кальция, выраженное снижение ферментурии, а также ослабление процесса СРО. Было зафиксировано значительное уменьшение количества кальциевых отложений и их размеров. В результате проведенных экспериментов получены свидетельства эффективности нифедипина как средства терапии экспериментального нефролитиаза.
Экспериментальный нефролитиаз, нифедипин, фармакологическая коррекция
Короткий адрес: https://sciup.org/14919505
IDR: 14919505 | УДК: 615.225.2:616.613-003.7
Текст научной статьи О роли блокаторов кальциевых каналов в фармакологической коррекции экспериментального нефролитиаза
Мочекаменная болезнь (МКБ) – распространенное заболевание почек, которым в развитых странах мира страдают 10–15% трудоспособного населения. При этом существующие методы лечения МКБ в основном сводятся к хирургическим и ударно-волновым способам разрушения и удаления камней, а методы фармакологической коррекции данного заболевания сегодня весьма ограничены [8].
Согласно современной минералогической классификации, практически все почечные камни состоят из кальциевых биоминералов (вевеллит, веделлит, апатит, брушит и др.) [5]. Установлено, что процесс образования кальциевых камней берет свое начало в интерстиции почеч- ного сосочка, прилегающего к тонкому отделу петли Генле, что обусловлено анатомическими и физиологическими особенностями данного отдела нефрона. При этом важнейшее значение здесь имеют процессы трансмембранного переноса ионов кальция, которые определяют первичное увеличение концентрации данного электролита в интерстициальном пространстве [3]. Известно, что на базальной мембране клеток дистальных канальцев, а также собирательных трубок внешнего и внутреннего мозгового веществ почки присутствуют кальциевые каналы L-типа (Cav1.2-каналы) [9]. Не исключено, что они могут играть существенную роль в указанном выше транспорте ионов Ca2+. В этой связи логично было предположить, что перспективным направлением фармакологической коррекции нефролитиаза может стать применение блокаторов кальциевых каналов. Однако данных, способных внести ясность в этот вопрос, в современной литературе не достаточно. Учитывая вышесказанное, целью настоящего исследования явилось изучение влияния нифедипина, классического блокатора кальциевых каналов L-типа, на течение экспериментального нефролитиаза.
Материал и методы
Эксперименты проведены на 30 самцах беспородных крыс массой 250–300 г, которые находились в индивидуальных клетках, приспособленных для сбора мочи в условиях стандартной диеты. Моделирование экспериментального нефролитиаза проводилось согласно общепринятой этиленгликолевой модели, суть которой заключается в том, что камнеобразование индуцируется длительным употреблением подопытными животными в виде питья 1%-го раствора этиленгликоля. Этиленгликоль (ЭГ) – это низкомолекулярный двухатомный спирт, одним из продуктов метаболизма которого является оксалат-ион. Поэтому хроническое применение ЭГ приводит к пересыщению мочи солями CaC2O4, повреждению почечного эпителия, активации процессов свободно-радикального окисления, что в совокупности обусловливает отложение кальциевых депозитов преимущественно в интерстициальной ткани почечного сосочка [1].
Животные были разделены на 2 группы. Первая (контрольная) группа состояла из 15 крыс, которые на протяжении 6 недель получали в виде питья в свободном доступе 1%-й раствор этиленгликоля. Во второй группе (подопытная группа), включавшей остальных 15 крыс, начиная с 4-й недели, на фоне продолжавшегося потребления ЭГ животным ежедневно в течение последующих 3 недель внутрь через зонд вводилась взвесь субстанции нифедипина в 2%-й крахмальной слизи в дозе 10 мг/кг.
Каждые 3–4 дня осуществлялся сбор суточного объема мочи, в которой определялась концентрация оксалат-ионов, фосфат-ионов и ионов кальция, а также измерялась экскреция креатинина. Оксалаты в моче определялись при помощи высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе “Милихром-А02” (ЗАО “Эконова”, Новосибирск) по разработанной в нашей лаборатории методике [4]. В качестве элюентов использовались 80%-й раствор ацетонитрила при градиен- те от 0 до 100% и 0,1%-й раствор серной кислоты. Скорость подачи элюентов – 100 мкл/мин, объем элюирования – 1000 мкл, температура хроматографической колонки – 35 °C. Детектирование проводилось при длине волны λ=210 нм. Для расчетов применялся калибровочный график, который строили, используя стандартный раствор оксалат-иона в концентрации 1 мг/мл (фирма Fluka, США). Определение фосфат-ионов осуществляли методом фотоэлектроколориметрии (ФЭК) при длине волны λ=440 нм. Методика основана на реакции образования фосфорно-молибдено-ванадиевого комплекса, который имеет характерную желтую окраску. Ионы кальция в моче также определяли методом ФЭК по реакции с o-крезол-фталеин-комплексоном при длине волны λ=590 нм.
Кроме того, каждые 7 дней производилось измерение активности в моче маркерных ферментов повреждения почечного эпителия. В качестве таковых были выбраны: лактатдегидрогеназа – ЛДГ (характеризует степень цитолиза клеток), γ -глютамилтрансфераза – ГГТ (свидетельствует о степени повреждения клеточных мембран), N-ацетил- β -D-глюкозаминидаза – НАГ (демонстрирует функциональные нарушения нефроцитов). Активность ЛДГ определялась методом спектрофотометрии при длине волны λ =340 нм. В основе метода лежит реакция восстановления пирувата до молочной кислоты. Эта реакция катализируется ЛДГ, а ее скорость пропорциональна активности фермента. Каталитическая активность ГГТ, для измерения которой использовался метод ФЭК, рассчитывалась пропорционально количеству n-нитроанилина, образующегося в результате реакции взаимодействия L- γ -глутамил-3-карбокси-4-нитроанилида и глицилглици-на. Детектирование n-нитроанилина осуществляли на фотоэлектроколориметре при длине волны λ =400 нм. Определение НАГ проводилось по модифицированной методике Maruch. Согласно этой методике, активность НАГ пропорциональна количеству n-нитрофенола, образующегося в результате реакции гидролиза n-нитро-N-ацетил- β -глюкозамида, которую катализирует указанный фермент. Измерение количества n-нитрофенола производилось спектрофотометрически при длине волны λ =400 нм. Активность всех определяемых ферментов рассчитывалась относительно концентрации креатинина в моче, выражавшейся в мг/л, и обозначалась в условных единицах, как U/мг креатинина.
По истечении 6-й недели эксперимента с целью изучения активности в почечной ткани процесса свободнорадикального окисления (СРО), которая является важным индикатором литогенеза [6], а также для проведения морфометрических исследований срезов почек испытуемых животных крысы обеих групп подвергались декапитации путем дислокации шейного позвонка под эфирным наркозом с соблюдением требований Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (2000). Активность процесса СРО оценивалась по совокупности показателей оксидантного и антиоксидантного статусов. Показатели оксидантного статуса определялись в гомогенате коркового вещества почек. Суммарный показатель концентрации всех прооксидантов и свободно-радикальных метаболитов, общая проксидантная активность (ОПА) оценивалась по интенсивности окраски флуоресцентного комплекса, образующегося при взаимодействии продуктов перекисного окисления ТВИН-80 с тиобарбитуровой кислотой. Дополнительно определялась концентрация в ткани малонового диальдегида (МДА) и других тиобар-битуратреактивных продуктов окисления жирных кислот (ТБРП). Активность антиоксидантной системы также исследовалась в гомогенате коркового вещества почек. Для оценки антиоксидантного статуса клеток определялись показатели активности антиоксидантных ферментов: каталазы (КАТ), супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО). Активность КАТ определялась по подавлению ферментом окисления молибдата натрия перекисью водорода. Активность СОД оценивалась по содержанию в пробе нитроформазана, окрашенного продукта восстановления нитротетразолия супероксидными радикалами. Маркером активности ГПО служило определение неокисленного глутатиона по цветной реакции с реактивом Эллмана.
Морфометрическое исследование почек крыс производили с использованием светооптической микроскопии. В качестве фиксирующей жидкости применяли 10%-й раствор формалина. Для оценки количества и размеров кальциевых депозитов срезы ткани толщиной 4–6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. На срезах толщиной 10–15 мкм гистохимическим методом Косса определяли наличие соединений кальция.
Полученные результаты обрабатывали статистическим методом вариационных рядов с использованием критерия Манна–Уитни. Все расчеты велись по общепринятым формулам. Результаты представлены в виде M±m, где M – выборочное среднее, m – ошибка среднего, выборка (n) для каждой из групп в конкретный период эксперимента представлена в таблицах, значения показателя статистической значимости (p) указаны в разделе “Результаты”.
Результаты
Проведенные эксперименты показали, что у крыс контрольной группы в ходе шестинедельного потребления ЭГ развивался выраженный оксалатный нефролитиаз, что подтверждалось характерными биохимическими и морфологическими признаками. Как следует из таблицы 1, до начала применения ЭГ оксалат-ионы в моче контрольных животных не выявлялись, однако уже на 3-й день опыта их концентрация существенно возросла, оставаясь на неизменно высоком уровне вплоть до окончания периода.
Концентрация фосфат-ионов в моче крыс контрольной группы, будучи стабильной в течение первых трех недель моделирования нефролитиаза, начиная с 21-го дня, приобретала тенденцию к снижению, в резуль-
Таблица 1
Показатели экскреторной функции почек у крыс контрольной группы в условиях экспериментального нефролитиаза
|
Дни |
Диурез, мл/сут. |
Оксалат, мг/мл |
Фосфат, мг/мл |
Кальций, мкмоль/мл |
Креатинин, ммоль/сут. |
|
И/у |
5,3±0,36 (n=15) |
- |
9,1±0,38 (n=15) |
1,8±0,10 (n=15) |
7,1±0,38 (n=15) |
|
Моделирование нефролитиаза |
|||||
|
3 |
5,9±0,65 (n=12) |
1,3±0,29* (n=12) |
9,0±0,47 (n=12) |
1,9±0,19 (n=8) |
9,3±0,66* (n=8) |
|
7 |
5,4±0,48 (n=15) |
1,2±0,14* (n=15) |
8,0±0,44 (n=15) |
1,3±0,09* (n=15) |
8,5±0,61 (n=15) |
|
10 |
6,5±0,64 (n=9) |
1,3±0,10* (n=9) |
8,5±0,40 (n=9) |
Не определялось |
Не определялось |
|
14 |
5,9±0,43 (n=15) |
1,4±0,13* (n=15) |
8,2±0,33 (n=15) |
1,6±0,22 (n=15) |
6,3±0,44 (n=15) |
|
17 |
7,7±0,96* (n=15) |
1,1±0,10* (n=15) |
8,1±0,21 (n=15) |
1,9±0,13 (n=15) |
10,9±0,63* (n=15) |
|
21 |
6,7±0,55* (n=15) |
1,3±0,13* (n=15) |
7,4±0,46* (n=15) |
1,9±0,23 (n=15) |
7,2±0,49 (n=15) |
|
24 |
7,6±1,41 (n=15) |
1,6±0,17* (n=15) |
5,9±0,43* (n=15) |
1,4±0,14 (n=15) |
9,2±0,84 (n=15) |
|
28 |
7,7±0,78* (n=15) |
1,6±0,16* (n=15) |
6,2±0,40* (n=15) |
1,5±0,10 (n=15) |
8,6±1,00 (n=15) |
|
31 |
9,4±1,73* (n=8) |
1,3±0,12* (n=8) |
7,9±0,63 (n=8) |
1,5±0,28 (n=8) |
Не определялось |
|
35 |
8,2±1,01* (n=15) |
1,3±0,12* (n=15) |
6,1±0,50* (n=15) |
1,6±0,06 (n=15) |
8,4±0,74 (n=15) |
|
38 |
5,6±0,64 (n=9) |
1,7±0,21* (n=9) |
8,2±0,17 (n=8) |
Не определялось |
9,8±0,68* (n=9) |
|
42 |
9,0±1,19* (n=15) |
1,3±0,14* (n=15) |
6,2±0,45* (n=15) |
1,6±0,17 (n=15) |
8,3±1,03 (n=14) |
Примечание: здесь и далее: и/у – исходный уровень; звездочками обозначены статистически значимые изменения относительно исходного уровня (p<0,05); конкретные значения показателя (p) для наиболее важных изменений отражены в разделе “Результаты”.
Таблица 2
Влияние нифедипина в дозе 10 мг/кг на ферментативную активность в моче крыс при экспериментальном нефролитиазе
Дни ЛДГ ГГТ НАГ
U/мг креатинина в сутки
На этом фоне было выявлено некоторое усиление диуретической функции почек животных контрольной группы, что, по-видимому, было вызвано некоторым увеличением скорости клубочковой фильтрации, маркером которой являлись показатели динамики экскреции креатинина.
Важным признаком развития экспериментальной патологии явилась динамика активности в моче маркерных ферментов повреждения почечного эпителия. Из таблицы 2 следует, что данная динамика проявлялась в ярко выраженном росте описываемого показателя для всех трех энзимов, в результате которого за время опыта активность ЛДГ увеличилась в 2,9 раза; ГГТ – в 1,6 раза; НАГ – в 3,8 раза (для всех – p<0,001 относительно исходного уровня).
Кроме того, были зафиксированы четкие признаки развития оксидативного стресса в почках крыс конт-
Таблица 3
Показатели активности свободно-радикального окисления в почках крыс в ходе изучения влияния нифедипина в дозе 10 мг/кг на течение экспериментального нефролитиаза
|
Показатели |
||||
|
ТБРП мкМоль |
ОПА, % |
КАТ, % |
СОД, % |
ГПО, % |
|
Здоровые крысы |
||||
|
2,9±0,18 (n=15) |
75,5±2,71 (n=15) |
11,9±0,79 (n=15) |
14,9±1,61 (n=15) |
37,4±1,88 (n=15) |
|
Контроль 6 недель |
||||
|
24,1±0,62* (n=11) |
78,2±2,24 (n=13) |
13,6±1,50 (n=11) |
11,6±1,26 (n=13) |
29,9±2,45* (n=13) |
|
Лечение |
||||
|
15,1±1,66 * (n=8) |
75,5±2,52 (n=13) |
21,4±2,19 * (n=14) |
11,5±1,57 (n=15) |
16,3±1,90 * (n=12) |
рольной группы (табл. 3). Так, концентрация ТБРП увеличилась в 8,3 раза по сравнению с таковой у здоровых крыс (p<0,001). При этом на 7,5% снижалась активность ГПО, главного антиоксидантного фермента (p=0,024).
Наиболее весомым подтверждением развития нефролитиаза у крыс контрольной группы, 6 недель потреблявших ЭГ, стали результаты морфометрии, которые выявили в области почечного сосочка значительное количество кальциевых депозитов (27,4±3,22 в поле зрения), средний размер которых составил 12,0±0,62 мкм.
В подопытной группе в первые 3 недели применения ЭГ также были зафиксированы характерные признаки развития нефролитиаза: пересыщение мочи оксалат-ионами и рост активности маркерных ферментов (табл. 4)
В этих условиях трехнедельное применение нифедипина привело к значительному облегчению протекания экспериментальной патологии. Как следует из таблицы 2, уже после 7 дней введения препарата произошло ощутимое снижение мочевой концентрации оксалат-ионов, продолжившееся вплоть до конца эксперимента. В указанные периоды наблюдения концентрация оксалатов в моче подопытных крыс уступала контрольным цифрам в 1,7–3,4 раза. Кроме того, начиная с 14-го дня лечения, фиксировалось уменьшение концентрации в моче ионов кальция в 1,6–2 раза относительно контрольной группы (p<0,001).
Динамика экскреторной функции почек и концентрации фосфат-ионов в моче у крыс, получавших нифедипин, в целом соответствовала таковой в контрольной группе (табл. 2).
Таблица 4
Влияние нифедипина в дозе 10 мг/кг на показатели экскреторной функции почек у крыс подопытной группы в условиях экспериментального нефролитиаза
|
Дни |
Диурез, мл/сут. |
Оксалат, мг/мл |
Фосфат, мг/мл |
Кальций, мкмоль/мл |
Креатинин, ммоль/сут. |
|
И/у |
3,1±0,22 (n=30) |
- |
8,8±0,26 (n=25) |
1,8±0,07 (n=24) |
5,9±0,23 (n=30) |
Моделирование нефролитиаза
|
3 |
3,2±0,40 (n=15) |
1,4±0,16* (n=14) |
10,0±0,80 (n=15) |
1,9±0,11 (n=15) |
6,5±0,51 (n=15) |
|
7 |
2,7±0,22 (n=15) |
2,7±0,21 * (n=15) |
Не определялось |
Не определялось |
7,2±0,19* (n=15) |
|
10 |
3,8±0,31 (n=15) |
2,2±0,17 * (n=15) |
8,9±0,60 (n=15) |
1,7±0,10 (n=15) |
7,1±0,33* (n=15) |
|
14 |
4,5±0,48 (n=15) |
2,3±0,19 * (n=15) |
10,1±0,80 (n=15) |
1,7±0,14 (n=14) |
7,6±0,29 (n=15) |
|
17 |
4,0±0,24 (n=14) |
2,0±0,12 * (n=14) |
8,5±0,25 (n=15) |
1,7±0,06 (n=15) |
6,4±0,24 (n=13) |
|
21 |
5,7±0,61* (n=15) |
2,3±0,11* (n=15) |
7,6±0,27 (n=15) |
1,5±0,10 (n=9) |
7,9±0,39* (n=15) |
Лечение
|
24 |
8,1±0,94* (n=11) |
1,5±0,21* (n=11) |
6,4±0,29* (n=11) |
1,7±0,11 (n=11) |
9,7±0,77* (n=11) |
|
28 |
9,1±0,48* (n=15) |
0,8±0,08 * (n=15) |
5,4±0,32* (n=15) |
1,2±0,13* (n=15) |
9,7±0,36* (n=15) |
|
31 |
7,6±1,12* (n=15) |
0,8±0,15 * (n=15) |
6,7±0,78* (n=15) |
1,7±0,16 (n=15) |
12,3±1,60* (n=15) |
|
35 |
9,0±1,15* (n=10) |
0,7±0,08 * (n=10) |
5,5±0,56* (n=10) |
1,0±0,12 * (n=10) |
9,4±0,36* (n=10) |
|
38 |
10,5±1,65* (n=10) |
0,5±0,06 * (n=9) |
4,2±0,56* (n=10) |
0,7±0,05 * (n=10) |
9,8±0,90* (n=10) |
|
42 |
11,5±1,19* (n=14) |
0,5±0,07 * (n=14) |
4,7±0,56* (n=14) |
0,8±0,08 * (n=14) |
10,5±0,53* (n=14) |
Примечание: здесь и далее подчеркнуты статистически значимые изменения относительно контрольной группы (p<0,05); конкретные значения показателя (p) для наиболее важных изменений отражены в разделе “Результаты”.
Наглядным показателем эффективности проводимой терапии стала динамика ферментативной активности в моче. Оказалось, что в условиях применения препарата величина данного показателя для всех трех энзимов снижалась, в результате чего к моменту завершения эксперимента активность ЛДГ уступала контрольным значениям в 3,5 раза; ГГТ – в 1,7 раза; НАГ – в 3,4 раза (для всех – p<0,001).
Параллельно, как это видно из таблицы 4, были зарегистрированы признаки ослабления оксидативного стресса в почечной ткани подопытных крыс, главными из которых стали: снижение концентрации ТБПР в 1,6 раза относительно контроля и рост активности КАТ на 7,8% (для обоих – p<0,001).
Наконец, результаты морфометрии подтвердили общую картину облегчения течения экспериментального нефролитиаза. Было установлено, что размер кальциевых депозитов не изменился, однако их количество в области почечного сосочка уменьшалось в 4,6 раза (с 27,4±3,22 до 5,9±1,11 в поле зрения; p<0,001).
Обсуждение
Таким образом, проведенное исследование показало, что 6-недельное применение ЭГ привело к развитию у крыс контрольной группы выраженного оксалатного нефролитиаза, что было наглядно подтверждено характерными биохимическими и морфологическими признаками: пересыщение мочи оксалат-ионами, рост активности в моче маркерных ферментов повреждения нефроци-тов, активация процесса СРО в почечной ткани, формирование в области почечного сосочка многочисленных кальциевых депозитов.
На этом фоне длительное введение нифедипина сопровождалось ощутимым ослаблением литогенных процессов в почках подопытных животных. Во-первых, было отмечено ярко выраженное снижение мочевой концентрации оксалат-ионов, при том что крысы, так же как и в контрольной группе, все 6 недель эксперимента потребляли ЭГ. Следовательно, указанное уменьшение содержания оксалатов в моче было обусловлено именно действием препарата, но не изменением условий эксперимента, тем более что в контроле описываемый показатель оставался стабильно высоким на всем протяжении периода наблюдений. Зафиксированный эффект нифедипина, несомненно, следует расценивать как положительный в контексте лечения экспериментального нефролитиаза, поскольку известно, что анионы щавелевой кислоты вносят весьма существенный вклад в процесс образования почечных камней. Реагируя с ионами Ca2+, они определяют синтез нерастворимых кальций-оксалатных биоминералов – основного структурного компонента кристаллического материала. Кроме того, оксалат-ионы повреждают почечный эпителий, что является необходимым условием для формирования первичного очага литогенеза, на котором впоследствии “вырастают” камни. Наконец, они инициируют процесс СРО в почках, угнетают эндогенные ингибиторы кристаллизации и активируют стимуляторы камнеобразования [2, 3, 7]. Поэтому столь выраженное снижение концентрации оксалатов с высо- кой степенью вероятности могло благоприятно отразиться на течении экспериментального нефролитиаза.
Проводимая терапия сопровождалась снижением концентрации в моче ионов кальция. С одной стороны, это было вполне ожидаемо и хорошо вписывается в рамки известных фармакологических свойств нифедипина. С другой стороны, данный эффект мог ослабить интенсивность химического синтеза в моче нерастворимых кальциевых солей, напрямую зависящую от мочевой концентрации катиона Ca2+, и внести тем самым дополнительный вклад в антилитогенное действие препарата.
Согласно современным представлениям, важнейшую роль в процессе камнеобразования играет так называемый “повреждающий фактор”, под действием которого происходит деструкция или гибель нефроцитов, открывающие изначально скрытое под эпителием первичное ядро кристаллизации, на котором впоследствии адгезируются кристаллы апатита и вевеллита, формируя камни как таковые [3]. Причины возникновения повреждающего фактора остаются дискуссионными, но его диагностическими индикаторами являются активность в моче маркерных ферментов и активность процесса свободнорадикального окисления. Проведенные эксперименты показали, что на фоне длительного применения нифедипина происходило поступательное снижение ферментативной активности в моче крыс подопытной группы, в результате чего она значительно уступала контрольным показателям. Кроме того, были зафиксированы четкие признаки ослабления оксидативного стресса в почечной ткани животных, получавших лечение: снижение относительно контроля концентрации ТБРП и усиление активности КАТ – одного из антиоксидантных энзимов. Все это в совокупности указывает на то, что в результате воздействия препарата повреждающий фактор был в значительной мере нивелирован, и началось восстановление структуры и функциональной активности нефроцитов.
Описанные стороны действия нифедипина, в итоге получили главное воплощение: количество кальциевых депозитов в области почечного сосочка снизилось в 4,6 раза.
Таким образом, применение нифедипина в качестве средства фармакологической коррекции экспериментального нефролитиаза облегчает течение заболевания за счет ослабления пересыщения мочи, восстановления структурной и функциональной целостности почечной ткани, а также уменьшения количества и размеров кальциевых депозитов. Это открывает новые перспективы в клиническом применении антикальциевых препаратов.
Список литературы О роли блокаторов кальциевых каналов в фармакологической коррекции экспериментального нефролитиаза
- Жариков А.Ю., Брюханов В.М., Зверев Я.Ф. и др. Современные методы моделирования оксалатного нефролитиаза//Нефрология. -2008. -Т. 12, № 4. -С. 28-35.
- Жариков А.Ю., Брюханов В.М., Зверев Я.Ф. и др. Современные представления о модуляторах оксалатного нефролитиаза. I. Стимуляторы кристаллизации//Нефрология. -2009. -Т. 13, № 1. -С. 56-72.
- Жариков А.Ю., Брюханов В.М., Зверев Я.Ф. и др. Механизм формирования кристаллов при оксалатном нефролитиазе//Нефрология. -2009. -Т. 13, № 4. -С. 37-50.
- Жариков А.Ю., Лампатов В.В., Зверев Я.Ф. и др. Новый способ определения оксалатионов в моче//Клиническая лабораторная диагностика. -2010. -№ 12. -С. 3-5.
- Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., Лампатов В.В. и др. Современные представления о роли физикохимических факторов в патогенезе кальциевого нефролитиаза//Нефрология. -2009. -Т. 13, № 1. -С. 39-50.
- Зверев Я.Ф., Брюханов В.М., Талалаева О.С. и др. О роли процессов свободнорадикального окисления в развитии оксалатного нефролитиаза//Нефрология. -2008. -Т. 12, № 1. -С. 58-63.
- Зверев Я.Ф., Жариков А.Ю., Брюханов В.М. и др. Современные представления о модуляторах оксалатного нефролитиаза. Ингибиторы кристаллизации//Нефрология. -2010. -Т. 14, № 1. -С. 29-49.
- Тиктинский О.Л., Александров В.П. Мочекаменная болезнь. -СПб.: Питер, 2000. -384 c.
- Hayashi K., Wakino N., Sugano N. et al. Ca2+ channels subtypes and pharmacology in the kidney//Circ. Res. -2007. -Vol. 100. -P. 342-353.