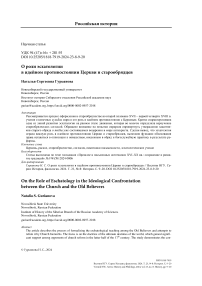О роли эсхатологии в идейном противостоянии церкви и старообрядцев
Автор: Гурьянова Н.С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается процесс оформления в старообрядчестве во второй половине XVII - первой четверти XVIII в. учения о конечных судьбах мира и его роль в идейном противостоянии с Церковью. Кратко охарактеризована одна из линий развития эсхатологии на раннем этапе движения, которая во многом определила вероучение старообрядческих согласий. Обращено внимание на попытки иерархов опровергнуть утверждение защитников старого обряда о якобы уже состоявшемся воцарении в мире антихриста. Сделан вывод, что эсхатология играла важную роль в идейном противостоянии Церкви и старообрядцев, выполняя функцию обоснования права оставаться в оппозиции к новшествам, внесенным в обряд и богослужебную практику в результате реформы.
Церковь, раскол, старообрядчество, согласия, памятники письменности, эсхатологическое учение
Короткий адрес: https://sciup.org/147245833
IDR: 147245833 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-8-9-20
Текст научной статьи О роли эсхатологии в идейном противостоянии церкви и старообрядцев
,
,
Раскол в Русской церкви, произошедший в результате церковной реформы, начатой патриархом Никоном, был показателем кризисных явлений в обществе. Первоначально это было внутрицерковное явление, когда часть духовенства, монашества не поддержала изменений, внесенных в обряд и богослужебную практику. Достаточно быстро защитники старого обряда привлекли в свои ряды часть населения, что сделало важной для Церкви борьбу с распространением раскола. Она действовала при поддержке светской власти, вернее, в союзе с ней. Это проявлялось и в идейном противостоянии Церкви и старообрядцев, которое было частью борьбы за паству. Представляется актуальным уточнить роль эсхатологии в этом процессе.
Учение о конечных судьбах мира и человека после принятия Русью христианства стало играть важную роль в общественном сознании населения. Восприятие действительности в эсхатологических категориях постепенно сделалось неотъемлемой частью представлений верующего человека, особенно обостряясь в кризисные моменты истории страны 1. По мнению С. Н. Булгакова, это способствовало появлению особого типа апокалиптики, в котором сочетались мрачная и светлая стороны. Поясняя свою мысль, автор в качестве яркого примера сослался на эсхатологическое учение старообрядцев. При этом он подчеркнул, что русский раскол «в своем духовном укладе сохранил дух православной церковности, хотя и с неизбежной односторонностью» 2. В данном случае важно отмеченное сохранение в старообрядчестве «духа православной церковности». У защитников старого обряда это особенно ярко проявилось в провозглашенной верности традициям и в неприятии новшеств.
С первых шагов патриарха Никона на пути внесения изменений в обряд и богослужебную практику Русской церкви обозначились центры сопротивления 3. В них происходил поиск аргументов в защиту отстаиваемой точки зрения на ортодоксальный вариант русского православия, который в XVI в. в Стоглаве был только обозначен. Церковь после Смуты попыталась дополнить его богословскими обоснованиями, ориентируясь на творческое наследие
Киевской митрополии 4. При этом использовались сочинения, написанные южнорусскими православными авторами в конце XVI – начале XVII в. в ходе борьбы с инославными и униатами.
Существенное влияние на русских книжников оказало эсхатологическое учение, которое было сформулировано православными авторами Киевской митрополии в очень сложных исторических условиях. Рукописи и печатные издания с этими памятниками письменности были известны и распространялись в России. Ориентируясь на богословскую мысль родственной митрополии, Церковь в 40-е гг. представила эти произведения и в адаптированном для русского читателя виде 5. Во всех этих текстах было достаточно подробно изложена идея о должном в скором времени произойти покорении мира антихристом со всеми вытекающими по христианскому вероучению последствиями.
Распространению в среде противников церковной реформы этого варианта эсхатологических построений содействовала не только популярность «литовских» книг, но и появление «Книги», составленной дьяконом Федором из слов Спиридона Потемкина – одного из лидеров раннего периода старообрядчества. В ней автор, опираясь на тексты православных авторов Киевской митрополии, предложил решение актуальных для противников церковной реформы вопросов, изложив обстоятельно и теорию о постепенном завоевании мира антихристом 6.
Эти построения оказались очень востребованными в среде защитников старого обряда, религиозное сознание которых позволяло найти в них объяснение происходящему в реальной жизни. По этому поводу профессор богословия П. С. Смирнов очень точно заметил: «Вопрос о том, как смотреть на переживаемое время, занимал центральное место в ряду внутренних вопросов в расколе за первое время его существования. Все другие важнейшие вопросы или были прямым последствием его, или же находили в нем основу для своего разрешения» [Смирнов, 1898, с. 1]. Следует только внести уточнение, что вопрос о переживаемом времени был в центре внимания старообрядцев не только в ранний период, но и позже.
Первое поколение противников церковной реформы, действительно, попыталось использовать христианское эсхатологическое учение, существовавшее в православии в недостаточно разработанном виде, при обосновании своего права оставаться в оппозиции. Все признаки наступления «последних» времен, воцарения антихриста легко соотносились ими с современной действительностью. Каждый автор предлагал свой вариант доказательства исполнения предсказаний о воцарении в мире антихриста, поэтому трудно в статье охарактеризовать сложный процесс оформления эсхатологического учения в среде противников церковной реформы. Можно только обозначить одно из направлений, характерных для движения в целом.
Для установления важных идей, определивших этот процесс, следует обратить внимание на сочинения дьякона Федора. В них он не только повторил теорию об отступлениях в ходе завоевания мира антихристом, предложенную Спиридоном Потемкиным, но и актуализировал ее, соотнеся предсказание о должном произойти в 1666 г. в России самом последнем отступлении от веры с собором 1666–1667 гг., на котором были осуждены и преданы анафеме противники церковной реформы 7.
Справедливость выбора произведений дьякона Федора для характеристики одного из основных направлений развития идеологии зарождающегося религиозно-общественного движения подтверждается отношением к его творчеству единомышленников. Именно ему пус-тозерские узники доверили написать текст манифеста раннего периода старообрядчества –
«Ответ православных» 8. Не менее важным обстоятельством следует считать и включение фрагментов из его сочинений, посвященных изложению эсхатологических построений, в компиляцию, составленную в начале XVIII в. 9 Это означает, что следующие поколения старообрядцев воспринимали его произведения в качестве основополагающих при оформлении идеологии вновь образованных согласий.
В сочинениях дьякона Федора нашла отражение и характерная для других авторов эволюция взглядов по поводу учения о конечных судьбах мира. До собора переживаемое время определялось противниками церковной реформы как предшествующее воцарению антихриста. В челобитных, в сочинениях приводились аргументы в защиту отстаиваемой точки зрения на новшества и звучали призывы отменить их, поскольку авторы утверждали, что изменения в обряде и богослужебной практике свидетельствовали об отступлении от истинной веры. Единственным способом не допустить, чтобы в России воцарился антихрист, по их мнению, было сохранить верность традициям Русской церкви.
После собора, который утвердил результаты церковной реформы и осудил ее противников, меняется восприятие действительности, тон челобитных и сочинений защитников старого обряда становится более агрессивным. Авторы стали четко формулировать свои претензии к носителю верховной власти и патриарху, обосновывая их тем, что настало время скорого воцарения в России антихриста, который давно уже покорил мир. Это привело к тому, что они стали заниматься эсхатологическими построениями, соотнося знамения и признаки покорения мира антихристом, предсказанные в Священном Писании и святоотеческом предании, с современными событиями.
Творческое наследие инока Авраамия – наглядное тому подтверждение. Он попытался подвести определенный итог оформления идеологии зарождающегося религиозно-общественного движения, составив сборник «Христианоопасный щит веры…» из написанных к тому времени противниками церковной реформы сочинений, дополнив собственными текстами. Л. Д. Демидова осуществила анализ текста сборника и сделала важное для темы статьи замечание по поводу его содержания: «В нем (в сборнике. – Н. Г. ) нашли отражение взгляды разных авторов первого поколения противников церковной реформы на все дискуссионные проблемы. Инок Авраамий сумел не только придать связность и единство идеям, выраженным в отдельных сочинениях, но и превратить их в систему» [Демидова, 2013, с. 3].
Действительно, составитель включил авторитетные тексты, в которых первым поколением противников церковной реформы были представлены аргументы и сформулированы идеи, позволяющие им оставаться в оппозиции к новшествам. Большое внимание было уделено эсхатологическим построениям благодаря включению сочинений дьякона Федора 10. Совершенно очевидно проступает эволюция взглядов ранних старообрядцев в области эсхатологии, вернее, в одной из линий – Спиридон Потемкин, дьякон Федор и инок Авраамий. Последний не только подвел определенный итог развития идеологии раннего этапа движения, составив сборник, но и на его материалах написал в 1670 г. Челобитную, в которой сумел выразить основные идеи, отстаиваемые защитниками старого обряда, в более ясной форме, обосновывая их справедливость эсхатологическими построениями.
Это была не единственная линия развития учения о конечных судьбах мира в среде противников церковной реформы, но важная, учитывающая достижения других авторов. Она была основополагающей для вероучения старообрядцев, поэтому может быть использована при характеристике роли эсхатологии в идейном противостоянии с Церковью. Вывод о том, что переживаемое время есть «последнее», стал общим местом для противников церковной реформы при характеристике современности. В публицистических сочинениях авторы не всегда излагали учение о конце света, им достаточно было обозначить время в качестве «последнего», чтобы вызвать у читателей соответствующие ассоциации.
Цитаты из Священного Писания и фрагменты с их истолкованием в святоотеческом предании, составляющие христианское эсхатологическое учение, предоставляли возможность по-разному интерпретировать образ антихриста, исходя из цели написания автором произведения. Традиционным для Русской церкви было использование текстов, в которых противник Христа трактовался в чувственном образе. Первое поколение защитников старого обряда ориентировалось на этот вариант, но при этом отмечалась и духовная сущность антихриста, покорившего мир.
В процессе оформления идеологии движения было предложено новое направление развития эсхатологического учения старообрядцев. В послании в Тюмень из Далматовского монастыря «Об антихристе и тайном царстве его», написанном неизвестным автором, по мнению П. С. Смирнова, во время царствования Алексея Михайловича, была сформулирована теория духовного антихриста. До этого авторы делали акцент на чувственном явлении противника Христа, хотя элементы истолкования его присутствия в мире в качестве Духа имели место. Автор сочинения «Об антихристе и тайном царстве его» сумел представить цитаты из Священного Писания и святоотеческого предания, составляющие христианское эсхатологическое учение, истолкованными исключительно в духовном плане 11.
Преследование защитников старого обряда Церковью и светской властью только усилило остроту эсхатологических ожиданий в этом сообществе и способствовало популярности их взглядов среди населения. Внутрицерковная оппозиция очень быстро превратилась в широкое религиозно-общественное движение, что, естественно, очень тревожило Церковь и власть, которые объединили усилия в борьбе с расколом. Это особенно заметно, если обратить внимание на поместный собор, состоявшийся в Москве в 1681–1682 гг. На нем обсуждалась и тема борьбы с расколом, которую традиционно определил Феодор Алексеевич своими предложениями. Об этом свидетельствует название-аннотация, сопровождающая постановление: «Соборное постановление по предложениям Царя, об учреждении новых епархий, о предании раскольников градскому суду… о воспрещении строить новые пустыни и продавать разныя выписи из книг Божественнаго Писания и пр.» (АИ, 1842, с. 108).
Проблеме раскола было посвящено несколько предложений Феодора Алексеевича (2, 13– 16). Особенно показательно 14-е предложение, в котором было высказано опасение, что увеличению последователей защитников старого обряда среди простых людей способствуют рукописные агитационные материалы, распространяемые противниками церковной реформы среди населения (АИ, 1842, с. 117). Власть увидела главную опасность в письмах и тетрадках старообрядцев с изложением взглядов на результаты церковной реформы, которая истолковывалась ими исключительно в качестве свидетельства отступления от истинной веры, из-за которого должен последовать конец мира. Собор в ответе предложил, чтобы особые люди были назначены от государя и от патриарха, которые бы «вкупе того поостерегали», т. е. предотвращали деятельность проповедников раскола. При этом было указано, что «для вспоможения тем выборным людем давать с караулов стрелцов» (АИ, 1842, с. 118).
В данном случае проступает не только озабоченность светской власти и Церкви распространением раскола, но и желание достаточно жестко прекратить это. Властям удалось реализовать это постановление собора, приняв соответствующие законодательные акты. Усилились гонения на защитников старого обряда, последовали казни, но это не остановило увеличения приверженцев движения. Не способствовали этому и неоднократные попытки Церкви опровергнуть точку зрения оппонентов. Ярким примером может служить изданный в 1682 г. от имени патриарха Иоакима труд архиепископа Холмогорского Афанасия «Увет духовный», который был написан сразу после знаменитого диспута иерархов с Никитой Добрыниным 12.
Целью создания сочинения было предоставить опровержение доводов противников церковной реформы. В молодости Афанасий был сторонником этого движения. В «Увете духовном» он со знанием дела излагал точку зрения оппонентов по обсуждаемым вопросам. В этом тексте, естественно, нашла отражение и озабоченность Церкви распространением раскола: «И грех ради наших, такову дерзость онии псыбеснии на ся взяша, яко не токмо по дворах тайно, но уже с буестию проклятою по улицах, по торжищах, по корчмах… людей божиих ядометными своими словесы прелщаху» (Увет духовный, 1682, л. 54 об.) 13.
Основную опасность в столь успешном распространении раскола иерарх тоже увидел в существовании рукописных материалов с изложением учения. При этом он очень точно охарактеризовал суть содержания этих тетрадок: «И носяще с собою богомерзския писанныя тетратки своих мрачных прелестей, сими совратившеся от богопреданныя святыя веры… В них же писано, якобы уже последняя кончина мира» (Увет духовный, 1682, л. 55). Архиепископ Афанасий очень точно обозначил основополагающую идею учения старообрядцев, которая служила им обоснованием права оставаться в оппозиции. Естественно, он попытался опровергнуть их взгляды, сосредоточив внимание на Челобитных Никиты Добрынина и священника Лазаря. Ни решение собора, ни гонения светской власти, ни попытка иерарха убедить паству остаться в лоне Церкви не сократили число сочувствующих движению, количество сторонников продолжало расти.
К концу XVII в. единое движение разделилось на два направления – признающих священников и утверждающих о необходимости в «последние» времена обходиться без них. Эсхатологические построения первого поколения противников церковной реформы были положены в основу идеологии двух направлений движения. Особенно ярко это проявилось в беспоповщине при образовании самостоятельных согласий. Их лидеры опирались на сформировавшееся мнение о том, что время воцарения в мире антихриста «близ». Церковь обращала особое внимание на эсхатологические построения старообрядцев.
В 1703 г. Стефан Яворский опубликовал сочинение «Знамения пришествия антихристова», направленное против старообрядческого эсхатологического учения (Стефан, 1703) 14. Не случайно местоблюститель патриаршего престола написал текст, который посвятил опровержению утверждения о том, что переживаемые времена есть антихристовы. Ориентируясь на западную богословскую мысль, он перечислил все знамения пришествия антихриста, убеждая читателей, что они еще не наблюдаются. Главным аргументом против вывода старообрядцев о воцарении в мире антихриста была отсылка к евангельскому тексту о невозможности для человека знать время его пришествия (Мф. 24: 36). Совершенно очевидно, что в начале XVIII в. эсхатология стала играть важную роль в идейном противостоянии Церкви и старообрядцев. Только этим можно объяснить стремление иерархов опровергнуть эсхатологические построения оппонентов.
В процессе самоопределения старообрядческих согласий их лидеры вынуждены были заняться разработкой учения о конечных судьбах мира. Им следовало представить весьма убедительную с точки зрения христианина картину завоевания мира антихристом, объяснить, почему после предсказанного «последнего» отступления от веры, якобы состоявшегося в 1666 г., которое должно означать воцарение в мире антихриста, как утверждало первое поколение противников церковной реформы, не наступил конец света. В центре поморского согласия попытались предложить решение этой проблемы. Показателен в этом плане сборник БАН, собр. Дружинина, № 462 (491), составленный на Выгу в первой половине
XVIII в. 15. Значительную часть его объема, с л. 4 до л. 110, составляют тексты, посвященные эсхатологической теме. Это не систематическое изложение учения о конечных судьбах мира, а только подступы к решению основных вопросов, которые подтверждали мысль о том, что переживаемое время есть «последнее», антихристово.
Содержание включенных в сборник текстов особенно наглядно характеризует роль эсхатологии в идейном противостоянии Церкви и старообрядцев, поскольку важное место в сборнике заняло Слово на книжицу Стефана Яворского Андрея Денисова 16. Во введении автор 17 заявил, что следует при написании сочинений на богословскую тему ориентироваться на Священное Писание, «а не дерзати что самосмышленне, не обретше сокровенне лежащаго в духовных сокровищех» 18. Далее он еще более конкретизировал упрек в адрес Стефана Яворского. Подчеркнув, что в подобных сочинениях речь идет о «духовной премудрости», а не о рассуждениях по поводу «мирских потреб», автор охарактеризовал несколько вариантов отрицательных результатов создания текстов такого рода. Последний представлен так: «Иннии иногда тайнословят, надеющеся краснословия внешния мудрости, но внутрь под завесою писменною лежащаго пресветлаго бисера разумения видети не улучиша» 19.
После этого сказанное соотнесено с сочинением Стефана Яворского: «Каково видети есть страждущи в новосложенной книжице мудрейшаго Стефана митрополита, иже по притчи некоей рещи: Восхоте врага своего уязвити, от своего оружия окровавися. Обличая о кончине века дерзающих любопытствовати, дерзнул есть и сам о глубоких конечных тайнах муд-рословити, в них же и иная погрешая» 20. Уже во вводной части Слова был обозначен обличительный тон сочинения, поскольку утверждалось, что всё изложенное митрополитом является «самомнением», т. е. не опирается на Священное Писание. Автор указал и конкретную тему – «о Римской монархии», благодаря которой будет осуществлена попытка доказать неправоту иерарха. Действительно, Андрей Денисов акцентировал внимание на этом знамении, одном из описанных Стефаном при доказательстве, что предсказанное воцарение в мире антихриста еще не произошло.
Старообрядец представил точку зрения митрополита по этому поводу в цитатах, указывая страницы, на которых они расположены. Первым приведен достаточно пространный фрагмент с текстом, излагающим теорию о четырех монархиях и предсказание о последней, Римской, падение которой должно означать воцарение в мире антихриста 21. После этого пересказан вывод, сделанный Стефаном: «И сия убо в книжице оной и прочая тамо утвержано мнение оно, еже Римская область стоит единою голению» 22. Возражение против этой точки зрения Андрей Денисов начинает так: «Чюждужеся, како глаголяй повыше, внемлем толкованию Метафрастову, а сам невнятелно изследствова сказание его. Тамо бо того… не обретается. Тем же и мудрствуя и сия Стефан от себе глаголет и на самем мнении, а не на пророческом и Метафрастовом, ниже на ином коем от богословцев глаголанном утвержается» 23.
Старообрядец проанализировал все доводы Стефана и привел соответствующие цитаты из Священного Писания и святоотеческого предания, которые, как он считал, опровергают точку зрения митрополита. В конце Андрей Денисов подтвердил вывод о неверном истолковании митрополитом предсказания о четвертой монархии, приведя несколько фрагментов из 30-й главы «Книги о вере», в которых утверждалось, что Римская монархия уже пала и следует ожидать конца света 24. Слово на книжицу Стефана Яворского свидетельствует, что старообрядцы пытались опровергать критику иерарха, отстаивая право считать переживаемые времена «последними», антихристовыми. Обе стороны воспринимали эсхатологию в качестве важного звена в идейном противостоянии.
Кроме сочинения Андрея Денисова в сборник были включены тематические подборки выписок на тему «последнего» времени, образа антихриста и т. п. Они составлены из цитат из Священного Писания, святоотеческого предания, повествовательных источников – исторических и литературных произведений. В результате читателям предлагалось логично выстроенное изложение представлений о завоевании мира антихристом. Сложно охарактеризовать такого рода материалы, но в этом сборнике есть подборка, обозначенная как Свидетельства, к которой было составлено оглавление 25. В нем содержание разделено на 19 глав, каждой из которых дано название-аннотация. В результате получилось описание содержания представленных цитат, вернее, каким образом составители сборника рекомендовали читателям воспринимать их.
В качестве примера достаточно привести начало оглавления: «1. Свидетельства, яко еже антихрист глаголется, сиречь противник. 2. Свид., яко антихрист еже есть сопротивник, си-речь отступление и отступник сам и отступлению послушающих научит. Человек сый, все сатанино действо восприемляй. 3. Яко антихрист чрез ереси и еретиков уже прииде…» 26. Из приведенного фрагмента явствует, что в оглавлении обозначены проблемы эсхатологического учения, получившие освещение в представленных фрагментах текстов, а также их решение. Цитаты, составляющие христианское эсхатологическое учение, позволили выговцам охарактеризовать образ антихриста и основные параметры его действий.
Далее дополнительно приведены две отдельные цитаты об антихристе из Апокалипсиса 27 и еще одна подборка выписок из разных книг под заглавием «Собрание вкратце от Божест-веных писаний о антихристове пришествии на землю» 28. В этой подборке тоже просматривается участие составителей в систематизации цитат. Они, как и в случае с оглавлением, перед каждой тематической подборкой выписок поместили определение темы, которой они посвящены. В этих заглавиях проступает осмысление составителями включенных цитат: «О еже, будет ли антихрист на земли» 29; «О еже, когда приидет антихрист» 30; «О еже кончина века когда будет» 31; «О еже в кия лета по Христе» 32 и т. д.
Перечисление тем выписок можно продолжить, но даже в процитированных названиях со всей очевидностью обозначается направление поиска выговцами решения вопросов, связанных с эсхатологическим учением. В Священном Писании и святоотеческом предании они находили фрагменты, которые утверждали их в мысли о наступлении «последних» времен, о царствовании в мире антихриста. Его образ трактовался как сочетание духовного и чувственного начал, что позволяло старообрядцам, например, растянуть предсказанные в христианском эсхатологическом учении 3,5 года царствования антихриста на неопределенное время при сохранении остроты ожиданий конца света. Для религиозного сознания населения первой половины XVIII в. этого было достаточно для утверждения в мысли о том, что переживаемые времена есть «последние».
В начале XVIII в. были несколько ослаблены гонения на старообрядцев, борьба с распространением их учения сосредоточилась на идейном противостоянии. В 1709 г. Димитрий, митрополит Ростовский написал сочинение «Розыск о раскольнической брынской вере. О учении их, о делах их и изъявление, яко вера их неправа, учение их душевредно и дела их не богоугодна» (Димитрий, 1745). Уже в названии была обозначена направленность против старообрядцев. Часть вторая была посвящена доказательству «душевредности» их учения, а в 5-й главе опровергался взгляд старообрядцев на пришествие в мир антихриста (Димитрий, 1745, л. 40–46).
Иерарх так охарактеризовал суть эсхатологического учения старообрядцев: «Умствуют они и учат антихристову пришествию самим делом не быти, но мысленно токмо в мире тому воцаритися, а самое по существу лице антихристово, аки бы не имать быти. И сказуют, аки бы уже давно воцарился антихрист мысленно. От того времене, внеже наста на Москве книжное исправление… И аки бы уже настоит время Страшнаго Христова пришествия и дне суднаго и по вся нощи чают того и ждут нецыи от них возжегше свещу и не спяще даже до петелева глашения» (Димитрий, 1745, л. 40). Митрополит очень точно подметил остроту ожиданий старообрядцами конца света и изложил суть концепции духовного антихриста, которой они придерживались.
Действительно, как следует из выговских построений, представленных в сборнике Д. 462, элементы теории духовного антихриста преобладали в них. Попытки иерархов опровергнуть рассуждения старообрядцев по поводу переживаемого времени, которыми они обосновывали свое право оставаться в оппозиции, не увенчались успехом. Их учение привлекало все новых последователей. После введения двойного налога за право оставаться в старой вере, т. е. легализации старообрядцев, в «Докладных пунктах Синода» от 19 ноября 1721 г. степень распространения учения охарактеризована так: «…по ведомостям из Москвы, такое оных раскольников значится размножение, что в некоторых приходах и никого, кроме раскольщиков, не обретается, но все по записке под двойным окладом явствуются в раскольщиках» (ПСЗ-I, 1830, т. 6, с. 457, № 3854).
Власти по-прежнему видели особую опасность в распространении письменных агитационных материалов. Об этом свидетельствует именной указ, объявленный из Сената, от 18 августа 1718 г.: «О запрещении всем, кроме учителей церковных, писать в запертых покоях письма и о доносе на тех, которые против сего поступят». В нем рекомендовалось во всех церквах объявить и «выставить у всех же церквей листы» об этом, т. е. известить об этом указе прихожан не только устно, но и дать письменные объявления. В конце указа сообщалось о достаточно суровом наказании не только тех, «кто, запершись, пишет письма», но и тех, кто не донес об этом (ПСЗ-I, 1830, т. 5, с. 585, № 3223).
Совершенно очевидно, что Церковь в борьбе с распространением религиозно-общественного движения и в XVIII в. продолжала действовать в союзе со светской властью. В центре их внимания было старообрядческое учение о конечных судьбах мира и человека, поскольку оно послужило основой для оформления идеологии согласий, для решения вопросов религиозной жизни общин и их существования в государстве. Обе стороны осознавали важную роль эсхатологии в идейном противостоянии, поэтому одни считали необходимым убедить окружающих в справедливости утверждения, что настали «последние» времена, а представители официальной Церкви стремились опровергнуть его. Обращение к памятникам письменности, написанным противниками церковной реформы и иерархами, позволило сделать вывод, что эсхатология играла важную роль в идейном противостоянии Церкви и старообрядцев.
Список литературы О роли эсхатологии в идейном противостоянии церкви и старообрядцев
- Алексеев А. И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности конца XIV – начала XV в. СПб.: Алетейя, 2002. 352 с.
- Бубнов Н. Ю. Старообрядческая книга в России во второй половине XVII в. Источники, типы и эволюция. СПб.: БАН, 1995. 435 с.
- Булгаков С. Н. Православие и апокалиптика // Булгаков С. Н. Православие: Очерки учения православной церкви: М., 1991. С. 370–379.
- Гусева А. А. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации. М.: Индрик, 2010. 1252 с.
- Демидова Л. Д. «Христианоопасный щит веры…» инока Авраамия и идеология раннего старообрядчества: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2013. 29 с.
- Демидова Л. Д. Истоки русского раскола: инок Авраамий. СПб.: Нестор-История, 2022. 352 с.
- Демкова Н. С., Титова Л. В. Полемический трактат пустоозерских узников «Ответ православных» в составе сборников XVII века // Общественное сознание и литература XVI–XX вв. Новосибирск, 2001. С. 170–224.
- Демкова Н. С., Титова Л. В. Из литературного наследия пустозерских узников: неизвестная компиляция «Се ныне прииде час искушения на всю вселенную…» // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Екатеринбург, 2009. Вып. 7, ч. 2: Проблемы книжной культуры. С. 96–108.
- Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках. Сводный каталог. М.: ГБЛ, 1958. 152 с.
- Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа. М.: Индрик, 2003. 248 с.
- Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие Киевской митрополии. Новосибирск: Наука, 1998. 431 с.
- Опарина Т. А. Число 1666 в русской книжности середины – третьей четверти XVII в. // Человек между Царством и Империей: Материалы Междунар. конф. «Человек между Царством и Империей: культурно-исторические реалии, идейные столкновения, рождение перспектив». М., 2003. С. 287–317.
- Панич Т. В. Об одном источнике «Увета духовного» Афанасия Холмогорского (к теме священства и царства в литературе второй половины XVII в.) // Общественная мысль и традиции духовной культуры в исторических и литературных памятниках XVI–XX вв. Новосибирск, 2005. С. 213–222.
- Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. Исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. СПб.: Печатня С. П. Яковлева, 1898. 504 с.
- Сочинения писателей-старообрядцев первой половины XVIII века / Сост. Н. Ю. Бубнов. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001. 448 с.