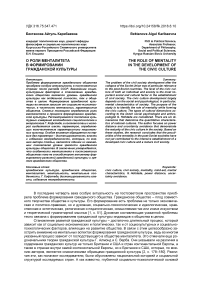О роли менталитета в формировании гражданской культуры
Автор: Бектанова Айгуль Карибаевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2018 года.
Бесплатный доступ
Проблема формирования гражданского общества приобрела особую актуальность в постсоветских странах после распада СССР. Важнейшим социокультурным фактором в становлении гражданского общества является уровень гражданской культуры как отдельной личности, так и общества в целом. Формирование гражданской культуры во многом зависит от социально-психологических, в частности ментальных, характеристик общества. Статья посвящена определению роли менталитета в процессе формирования гражданской культуры. Рассматривается типология культурных измерений голландского социопсихолога и антрополога Г. Хофстеде, в соответствии с которой выделяются шесть параметров, определяющих количественные характеристики национальных культур. Особое внимание обращается на первые два параметра - дистанцированность власти и избегание неопределенности, которые, по мнению автора статьи, являются одними из важнейших показателей уровня зрелости гражданской культуры общества. В заключение утверждается, что особенности менталитета в постсоветских обществах пока не способствуют активному формированию развитой гражданской культуры и зрелого гражданского общества.
Гражданская культура, гражданское общество, менталитет, ментальность, ментальные особенности, г. хофстеде, дистанцированность власти, избегание неопределенности
Короткий адрес: https://sciup.org/149133791
IDR: 149133791 | УДК: 316.75:347.471 | DOI: 10.24158/fik.2018.8.10
Текст научной статьи О роли менталитета в формировании гражданской культуры
В последние четверть века особую актуальность на постсоветском пространстве приобрела проблема формирования гражданского общества. Гражданское общество – плод совместного творчества общества и культуры. Его формирование есть проблема не только экономическая и политико-правовая, но и духовная, социально-психологическая и идеологическая, нравственная и эстетическая, религиозная и педагогическая, осмысляемая так или иначе искусством и теоретической гуманитарной мыслью [1, с. 51]. Духовная составляющая указанной проблемы тесно связана с формированием гражданской культуры индивидов и общества в целом.
Становление развитой гражданской культуры – достаточно длительный процесс, который зависит как от социально-экономических и политических, так и от социокультурных и социальнопсихологических факторов, влияющих на развитие общества. В связи с этим целесообразно заострить внимание на ментальных аспектах формирования гражданской культуры, ведь во многом указанный процесс зависит от господствующего в обществе менталитета. Это отмечали еще родоначальники теории гражданской культуры Г. Алмонд и С. Верба. Они указывали на различия в содержании гражданских культур не только Британии и США и стран континентальной Европы, а также в странах внутри самой континентальной Европы, но и Британии и США, которые, по мнению авторов, являются классическими образцами гражданской культуры [2, с. 178–180]. Различия эти, как полагают исследователи, были обусловлены национальной историей и социальной структурой исследуемых стран. А как известно, глубинной социально-психологической основой общественного развития выступает менталитет. На постсоветском социогуманитарном пространстве существенную роль менталитета в процессе формирования гражданской культуры отмечают многие исследователи [3]. В частности, С.Н. Соломатова утверждает: «На процесс становления российского гражданского общества значительное влияние оказывает менталитет, общественное сознание, традиционно характерное для россиян» [4, с. 111].
Понятие «менталитет» вошло в употребление сравнительно недавно, и это обстоятельство, безусловно, является одной из причин множества подходов к его толкованию. Из всего многообразия определений выделим два. Первое принадлежит Р.А. Ханаху, определяющему менталитет как «специфические, культурно определенные и социально закрепленные стереотипы поведения, существенным образом отличающие одни модели поведения и мышления от других; систему иерархически соподчиненных приоритетов и ценностей, способную преобразоваться в культурно-психологические и культурно-поведенческие автоматизмы» [5, с. 166].
Второе, более широкое определение дал А.А. Айтбаев. Под менталитетом он понимает «обобщенное социально-психологическое состояние субъекта (народа, нации, народности, социальной группы, человека), сложившееся в результате исторически длительного и достаточно устойчивого воздействия естественно-географических, этнических, социально-политических и культурных условий проживания субъекта, возникающее на основе органической связи прошлого с настоящим. Складываясь, формируясь, вырабатываясь исторически и генетически, менталитет представляет собой устойчивую совокупность социально-психологических качеств и черт, их органическую целостность (менталитет россиян, немцев, англичан и т. д.), определяющих многие стороны жизнедеятельности данной общности людей, проявляясь в их духовной и материальной жизни, в специфике их государственности и различных общественных отношениях» [6, с. 94].
Полагаем, что указанные определения вместе наиболее полно «схватили» сущность данного феномена.
Как известно, менталитет – наиболее устойчивая и длительная структура общественного развития. Применяя к нему характеристику типов исторического времени Ф. Броделя – представителя исторической школы «Анналов», одной из первых начавшей исследование проблем менталитета, менталитет можно отнести к феноменам «большой длительности». Именно такие феномены, с точки зрения французского историка, определяют развитие человечества [7, p. 48].
Ментальность формируется под воздействием различных факторов эндогенного (естественно-географические, социально-экономические, политические, социокультурные, технологические и др.) и экзогенного (генетические, биопсихические) характера, которые во многом задают временные рамки его «длительности». Так, естественно-географические, генетические и биопсихиче-ские детерминанты лежат в основе своеобразного ядра менталитета – малоподвижной константы, практически не меняющейся в течение тысячелетий. Вокруг него возникает более подвижная оболочка, меняющаяся в зависимости от внешних условий, к которым относятся социально-экономические, политические, социокультурные трансформации. Они и определяют динамику менталитета. В свою очередь менталитет может непосредственно воздействовать на указанные процессы, ускоряя или замедляя их. Это относится и к процессам формирования гражданской культуры.
С середины прошлого века западные социологи, психологи и антропологи стали проводить эмпирические исследования ментальных особенностей различных культур. Для их сравнения были разработаны различные методики. Наибольшую популярность получила типология культурных измерений голландского социопсихолога и антрополога Герта Хофстеде. На протяжении более чем сорока лет начиная с 1970-х гг. он проводил кросс-культурные исследования, целью которых было сравнение количественных характеристик культур в разных странах. Опираясь на базу данных по ценностям, собранную американской технологической и консультационной корпорацией IBM в пятидесяти странах, а также на исследования американских социологов А. Инке-леса и Д. Левинсона, канадского психолога М.Х. Бонда и болгарского социолога М. Минкова, голландский ученый разработал теорию измерений культур. Результаты исследований он опубликовал в работе «Последствия культуры» в 1980 г. и в книге для студентов «Культуры и организации: программирование сознания» (2010), соавторами третьего издания которой стали его сын Г.Я. Хофстеде и болгарский социолог М. Минков. Г. Хофстеде выделил шесть параметров, определяющих количественные характеристики национальных культур, каждый из которых он оценивал по шкале от 1 до 120 [8, с. 18–19].
Нас интересуют первые два параметра. Именно они, на наш взгляд, являются одними из показателей уровня зрелости гражданской культуры общества. Первый параметр – «дистанцирован-ность власти», согласно Г. Хофстеде, «определяется как степень, с которой облеченные меньшей властью члены организаций и институционализированных групп (например, семьи) принимают неравное распределение власти и ожидают этого неравенства» [9, с. 20–21]. В большинстве стран реальной демократии данный показатель низкий (Австрия, Дания, Голландия, Новая Зеландия,
Швеция, США, Германия). Жители этих стран уверены, что имеют одинаковые гражданские права с власть имущими, и воспринимают это как вполне закономерное явление. В случае ущемления своих прав они открыто выражают свои требования, проявляют активную гражданскую позицию, инициативу и ответственность. Культурам с высоким показателем дистанцированности власти (арабские страны, страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы) характерно преклонение перед властью, восприятие ее как необходимого условия своего существования.
Второй параметр - «избегание неопределенности» - показывает, «в какой степени та или иная культура задает своим членам ощущение спокойствия либо беспокойства в нерегламентиро-ванных ситуациях» [10, с. 22]. Под «нерегламентированными ситуациями» Г. Хофстеде понимает нечто новое, ранее не встречавшееся, непредвиденное. Культуры с высоким показателем избегания неопределенности стараются не допустить возникновения таких ситуаций. С этой целью они строго регламентируют нормы поведения, вводят всевозможные нормы и законы, пресекающие нежелательные отклонения. Для культур, допускающих возникновение неопределенности, характерны толерантность, плюрализм мнений, спокойствие, самоконтроль и открытость для перемен.
В странах постсоветского пространства, кроме республик Прибалтики и России, исследования не проводились. По двум рассмотренным параметрам Россия входит в пятерку аутсайдеров (93 балла по индексу дистанцированности власти и 95 - избегания неопределенности). Количественные показатели уровня дистанцированности власти и избегания неопределенности у России свидетельствуют о том, что современное состояние менталитета российского общества пока не способствует активному формированию развитой гражданской культуры. Как справедливо отмечает О.В. Омеличкин, «сейчас можно говорить только о ее начальном уровне, который характеризуется преобладанием “парохиально-подданнических” ориентаций в политике» [11, с. 79]. Данные показатели и характеристики в той или иной мере характерны для большинства постсоветских стран, в том числе и для Кыргызстана, ведь огромную роль в становлении современной ментальности в них сыграло сосуществование в рамках Российской империи и Советского Союза. Так, Г.Г. Дилигенский, указывая на антиномичность взглядов россиян на свободу личности, справедливо отмечает: «Мы обнаруживаем здесь антиномию, характерную для постсоветской ментальности: ей присуще стремление сохранить одновременно и свободу, и несовместимые с ней формы безопасности, социальной защищенности» [12, с. 13].
Исследования гражданской культуры в Кыргызстане показывают, что для основной массы электората характерна культура, в которой значительно преобладают стереотипы патриархальной и подданнической политических культур над установками партиципаторной культуры участия. Это свидетельствует о значительном влиянии ментальных установок, сформировавшихся в течение досоветской и советской истории кыргызов, на формирование гражданской культуры современного кыргызстанского общества. В частности, «родимым пятном» современного кыргызстанского социума стали трайбализм, клановость и непотизм, вышедшие из недр патриархальнофеодального общества и закрепившиеся у кыргызов на ментальном уровне. Если в далекие исторические времена родо-племенные отношения были главным фактором сохранения этнической целостности и самостоятельности кыргызов в пространственно-временном континууме, а в современной истории кыргызов на местном уровне они стали институтом самоорганизации, играющим важную роль в социально-экономической и культурной жизни сельских жителей, то на общенациональном уровне, особенно в политической жизни, эта роль становится негативной. Это препятствует формированию гражданской культуры населения, а следовательно, тормозит процессы становления гражданского общества.
В то же время следует отметить, что такие составляющие гражданской культуры кыргызов, как экологическая и правовая культура, присутствуют у них на ментальном уровне в качестве архетипа этноэкологического и правового сознания. Поэтому так важно обращение к этноэколо-гическим и правовым традициям кыргызских кочевников, их возрождение и дальнейшее развитие. Такие особенности советского менталитета, как интернационализм, солидарность и гуманизм, также способствуют формированию гражданской культуры личности.
Таким образом, ментальные особенности самым непосредственным образом влияют как на содержание, так и на интенсивность формирования гражданской культуры. От того, какие ценности, предпочтения, стереотипы преобладают в менталитете народа, зависит уровень зрелости его гражданской культуры. Положительные и рациональные ценности, убеждения и модели поведения способствуют формированию более высокого уровня гражданской культуры, тогда как негативные стороны, присутствующие в менталитете, снижают ее уровень.
Ссылки:
-
1. Каган М.С. Гражданское общество как культурная форма социальной системы // Социально-гуманитарные знания.
2000. № 6. С. 47-61.
-
2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / пер. с англ. Е. Генделя. М., 2014. 500 с.
-
3. Никольский С.А. Ментальность и становление гражданского общества в России (по поводу недавних работ В. Кантора и А. Кончаловского) // Человек и культура в становлении гражданского общества в России : материалы 2-й Всерос. конф. «Проблемы российского самосознания». М., 2008. С. 37–49 ; Резник Ю.М. Гражданское общество как социокультурный феномен: теоретико-методологическое исследование : дис. … д-ра филос. наук. М., 1998. 127 с. ; Соломатова С.Н. Влияние особенностей российского менталитета на процесс формирования гражданского общества в России // Омский научный вестник. 2007. № 4 (58). Июль – август. С. 111–114 ; и др.
-
4. Соломатова С.Н. Указ. соч. С. 111.
-
5. Ханаху Р.А. Традиционная культура Северного Кавказа: вызовы времени (социально-философский анализ). Майкоп, 1997. 194 с.
-
6. Айтбаев А.А. Сущность, содержание и значение понятий «менталитет» и «ментальность» // Известия вузов Кыргызстана. 2015. № 9. С. 91–95.
-
7. Braudel F. Histoire et sciences sociales. La longue durée // Braudel F. Ecrits sur l'histoire. Paris, 1969. P. 44–83.
-
8. Хофстеде Г. Параметры количественной характеристики культур // Язык, коммуникация и социальная среда. 2014.
-
9. Там же. С. 20–21.
-
10. Там же. С. 22.
-
11. Омеличкин О.В. Гражданская культура России: проблемы формирования // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2 (62), т. 2. С. 76–80.
-
12. Дилигенский Г.Г. Индивидуализм старый и новый: личность в постсоветском обществе // Полис. Политические исследования. 1999. № 3. С. 5–15.
№ 12. С. 9–49.
Список литературы О роли менталитета в формировании гражданской культуры
- Каган М.С. Гражданское общество как культурная форма социальной системы // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 6. С. 47-61.
- Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / пер. с англ. Е. Генделя. М., 2014. 500 с.
- Никольский С.А. Ментальность и становление гражданского общества в России (по поводу недавних работ В. Кантора и А. Кончаловского) // Человек и культура в становлении гражданского общества в России: материалы 2-й Всерос. конф. «Проблемы российского самосознания». М., 2008. С. 37-49.
- Резник Ю.М. Гражданское общество как социокультурный феномен: теоретико-методологическое исследование: дис. … д-ра филос. наук. М., 1998. 127 с.
- Соломатова С.Н. Влияние особенностей российского менталитета на процесс формирования гражданского общества в России // Омский научный вестник. 2007. № 4 (58). Июль - август. С. 111-114.
- Ханаху Р.А. Традиционная культура Северного Кавказа: вызовы времени (социально-философский анализ). Майкоп, 1997. 194 с.
- Айтбаев А.А. Сущность, содержание и значение понятий «менталитет» и «ментальность» // Известия вузов Кыргызстана. 2015. № 9. С. 91-95.
- Braudel F. Histoire et sciences sociales. La longue durée // Braudel F. Ecrits sur l'histoire. Paris, 1969. P. 44-83.
- Хофстеде Г. Параметры количественной характеристики культур // Язык, коммуникация и социальная среда. 2014. № 12. С. 9-49.
- Омеличкин О.В. Гражданская культура России: проблемы формирования // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2 (62), т. 2. С. 76-80.
- Дилигенский Г.Г. Индивидуализм старый и новый: личность в постсоветском обществе // Полис. Политические исследования. 1999. № 3. С. 5-15.