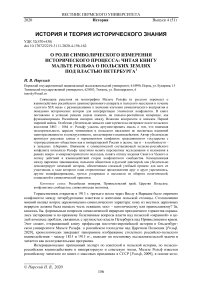О роли символического измерения исторического процесса: читая книгу Мальте Рольфа о польских землях под властью Петербурга
Автор: Нарский И.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История и теория исторического знания
Статья в выпуске: 4 (51), 2020 года.
Бесплатный доступ
Совмещена рецензия на монографию Мальте Рольфа (в русском переводе) о взаимодействии российского административного аппарата и польского населения в течение «долгого XIX века» с размышлениями о значении изучения символического восприятия и поведения исторических акторов для интерпретации этнических конфликтов. В книге поставлена и успешно решена задача показать на польско-российском материале, как функционировала Российская империя между Венским конгрессом и началом Первой мировой войны. Особенно убедительно замысел книги решен на материале после польского восстания 1863 - 1864 гг. Рольфу удалось аргументировать мысль о том, что взаимная подозрительность царских чиновников и польского населения не исключала взаимной заинтересованности и конструктивного, плодотворного взаимодействия. Автор убедительно критикует расхожее клише о перманентном конфликте «реакционного» государства с «прогрессивным» обществом как в императорской России в целом, так и - в особенности -в западных губерниях. Внимание к символической составляющей польско-российского конфликта позволило Рольфу пластично менять перспективу исследования и изложения в рамках макро- и микроисторического подходов, понять оптику видения Своего и Чужого и логику действий и взаимодействий сторон конфликтного сообщества. Коммуникация между царскими чиновниками, польским обществом и русской диаспорой, как убедительно демонстрирует немецкий историк, обеспечивала сложный учебный процесс для всех ее участников, в ходе которого одни стереотипные представления друг о друге укреплялись, другие модифицировались, третьи устаревали и выходили из оборота политической, социальной и символической практики.
Российская империя, привисленский край, царство польское, конфликтное сообщество, символическая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/147246330
IDR: 147246330 | УДК: 32(470+438) | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-4-156-162
Текст научной статьи О роли символического измерения исторического процесса: читая книгу Мальте Рольфа о польских землях под властью Петербурга
Торжественное открытие в 1913 г. третьего моста через Вислу в Варшаве было омрачено конфликтом между петербургскими властями и жителями польской столицы. Столкновение мнений вызвал вопрос церемониально-символического характера: кому из местных церковных иерархов должна была выпасть честь освящать мост – католическому или православному? За, казалось бы, формальным вопросом символической иерархии праздничного торжества скрывались застаревшие и по-прежнему болезненные вопросы власти над польской «окраиной» и целый комплекс проблем, связанных с хрупкостью власти Петербурга над Привислинским краем. Этот сюжет, открывающий книгу профессора восточно-европейской истории в Ольденбургском университете Мальте Рольфа о российском господстве над Царством Польским [ Рольф, 2020], хронологически завершает панорамное изображение столетнего российско-польского взаимодействия – между 1815 и 1915 гг., выводит на постановку исследовательской задачи и читается как исследовательская программа.
Интернационально признанный эксперт по советской и польской истории, по польско-российским взаимодействиям в императорскую и советскую эпохи, Мальте Рольф известен российскому читателю по книге о массовых праздниках в СССР [ Рольф , 2009], в основе кото-
рой лежит его первая диссертация [ Rolf , 2006], защищенная в 2004 г. и переведенная на английский язык [ Rolf , 2013]. Новая книга Рольфа представляет собой расширенную версию его второй диссертации (2012), переработанной в немецкоязычную книгу [ Rolf , 2014], которая была переведена на польский язык [ Rolf , 2016] и признана Польским историческим обществом лучшей иностранной книгой по польской истории за 2012–2017 гг. В ближайшее время ожидается выход англоязычной версии этой книги [ Rolf , 2021].
Основная задача книги М. Рольфа состоит, согласно авторской формулировке, «не в том, чтобы просто описать, как Петербург управлял одной из многих провинций своей державы: с использованием польского материала в качестве примера в книге поднимается фундаментальный вопрос о том, как формировалось имперское господство в этом многослойном и меняющемся переплетении административных аппаратов и методов управления, представлений акторов о своем месте в них, концептуальных горизонтов акторов и их конкретного опыта, встреч и конфликтов на местах» [ Рольф , 2020, с. 26]. С учетом выдающейся роли «польского вопроса» в российской политике, официальной идеологии, общественном мнении и культуре решение этой задачи в конечном счете позволит, по мнению автора, «увидеть, как была устроена царская Россия в целом и каковы были движущие силы ее трансформации на протяжении „долгого“ XIX века» [ Рольф , 2020, с. 15].
Отказываясь от традиционного для старых национальных историй линейного, иллюзорно целостного и последовательного изложения, М. Рольф избирает «ситуативный подход», успешно апробированный другим видным исследователем национальной проблематики в Российской империи – Алексеем Миллером [ Миллер , 2006] и восходящий к идее прерывистости реальности, лежащей в основе микроистории и других воплощений культур(аль)ной истории [ Гинзбург, 2004, с. 287–320]. Переломными «ситуациями» в излагаемой истории для М. Рольфа являются организация управления Привислинским краем после польского восстания 1863–1864 гг. революция 1905–1907 гг. и конец российского господства над Царством Польским (1915). Ретроспектива формирования власти Санкт-Петербурга над польскими территориями начиная с разделов Польши 1772–1815 гг. через реакции на восстание в Польше 1830 – 1831 гг., в книге также описывается, но не находится в центре анализа. Внимание автора сфокусировано на Варшаве – «центре управленческой бюрократии и зоне повышенной плотности взаимодействия между имперской администрацией и местным населением» [ Рольф , 2020, с. 18].
Рольф сосредоточивает внимание на сформулированных им шести тематических полях: «административный аппарат», «констелляции тех конфликтов, которые разыгрывались между царской бюрократией с местным населением», «имперская власть как формирующий фактор», «представление административных элит о самих себе», «складывание имперского общества в польских провинциях и прежде всего в Варшаве», «взаимосвязанность польских земель с другими окраинными территориями России и Петербургом» [ Рольф , 2020, с. 18–25].
Эти тематические поля запечатлелись в структуре исследования. Из семи глав (фактически в книге их пять, поскольку в самостоятельные главы М. Рольф выделяет введение и заключение) вторая и шестая построены по хронологическому принципу и посвящены периодам царского владычества над Польшей: с 1772 по 1863 и с 1900 по 1914 г., главы с третьей по пятую, а также седьмая (заключение) построены вокруг выделенных тематических полей в период между 1863 и 1915 гг. Именно эти проблемно ориентированные главы являются самыми сильными частями монографии М. Рольфа.
Третью главу («Структуры, акторы и сферы российского владычества в Царстве Польском после 1963 года», с. 125 – 268) пронизывают идеи о неадекватности применения к унифицирующим, общеимперским реформам Александра II термина «административная руссифика-ция», о которой можно говорить лишь в отношении политики последних двух российских императоров в связи с нараставшим восприятием российским правительством себя как представительства «русского»; о прекрасной осведомленности о местных условиях значительной части российских чиновников, служивших в Польше; об ориентации имперских чиновников на интересы имперского государства, а не узконационалистического «русского дела» не только в XIX, но и в начале ХХ в.
Четвертая глава («Империя и мегаполис: пример Варшавы», с. 269–361) составляет своего рода кульминацию исследования и являет собой гармоничное и убедительное соединение локального микроисследования с общеимперским контекстом. Автор аргументированно критикует стереотипное представление о власти Петербурга как о реакционном факторе угнетения и торможения и представляет российское господство как «продуктивный фактор в сложной городской системе уровней и акторов модернизации и взаимодействия сил» [Рольф, 2020, с. 272]. Этот тезис М. Рольф обосновывает, рисуя с помощью точечных кейсов взаимодействие и взаимный интерес русских чиновников и польских предпринимателей и филантропов, домовладельцев и инженеров.
Пятая глава («Формы имперского общества», с. 362–403) является компактным очерком «русской Варшавы» – русского общества в польской столице, которое не соответствует расхожим представлениям об «обществе» в Российской империи как антиподе самодержавной власти, оплоте эмансипации, публичной сфере и гражданском обществе в противостоянии государственным структурам. «Если бы мы попытались применить такое понимание „общества“ к русской общине в Варшаве, – пишет М. Рольф, – то пришлось бы, особенно в первые годы после Январского восстания, констатировать только отсутствие общества там: никакого русского „общества“ за пределами государственных учреждений в Привислинском крае после 1864 года не существовало» [ Рольф , 2020, с. 363–364]. Более того, активисты русского общества в Варшаве выступали с более радикальных, антипольских позиций, чем царские чиновники, что вынуждало последних дистанцироваться от ярых русских националистов.
За хронологически организованной шестой главой («Империя в кризисе: Царство Польское в 1900–1914 годах», с. 404–489), посвященной революции 1905–1907 гг. и ее последствиям на польских территориях, следует заключение («Глава VII. Царство Польское и Российская империя: заключение», с. 490–537). Из тезисов, сформулированных в нем, особо важными представляются следующие. Во-первых, национальная политика в Российской империи определилась не концепциями, а острыми повседневными вопросами. В итоге о последовательной «национальной политике» в Привислинском крае говорить не приходится. Во-вторых, конфликтное сообщество края держалось не на фундаментальной чуждости царских чиновников местному населению, а на их взаимосвязанности и взаимодействии в отношении проблем, важных для обеих сторон. «Это не вело к общему примирению, но создавало возможности для сотрудничества по отдельным пунктам» [ Рольф , 2020, с. 496]. В-третьих, польские земли были своего рода лабораторией имперской политики, а местный опыт приобретал общеимперское значение: «Польские территории были местом, где испытывались методы имперского господства; отчасти они и разрабатывались именно здесь, а потом применялись в других провинциях империи» [ Рольф , 2020, с. 512].
М. Рольф опирается на обширный комплекс опубликованных и неопубликованных документов из польских и российских библиотек и архивов. Многолетние разыскания по теме сопровождались тщательным изучением международной исследовательской литературы, в которой автор прекрасно ориентируется.
Особо впечатляет умение автора менять перспективу изложения, выбирать между различной степенью приближения объекта анализа, между макро и микро, между взглядом с высоты птичьего полета и оптикой исторического актора, непосредственного участника и свидетеля событий. Эта мультиперспективность исследовательского инструментария четко проявилась в изображении фактов символической политики и символического восприятия происходящего действующими лицами. С одного из таких фактов – освящения моста через Вислу – и начинается повествование М. Рольфа. Автор многократно подчеркивает важность ритуальной символизации и визуальной репрезентации конфликта в восприятии и поведении обеих сторон на протяжении десятилетий царского господства над польскими землями [ Рольф , 2020, с. 92, 143, 145, 187–188, 213, 229, 234–235, 236, 256–257, 299, 323, 371, 372, 385, 386, 387, 392, 412, 442, 462, 463, 486]. Говоря о необходимости учитывать в исследовании российскую символическую политику в Царстве Польском, он аргументирует это указанием на то, что «для многих польских подданных именно в ней зримо и особенно болезненно проявлялось их подчинение русскому господству» [ Рольф , 2020, с. 143]. Символические жесты были столь важны, что сплошь и рядом заслоняли и делали незаметными для польских современников позитивные изменения в развитии Царства Польского.
И неудивительно: символическая политика Петербурга в Варшаве была нацелена на то, чтобы быть замеченной, а значит, была зримой и репрезентативной. Будь то строительство русских крепостей и тюрем, церквей и памятников, проведение парадов и праздников, визитов императоров и связанных с этим торжеств, перекодирование польских мест памяти в русские, присвоение русских названий городам и улицам, обязательность писать кириллицей названия магазинов и на рекламных щитах, говорить по-русски в университетском кампусе или на приеме генерал-губернатора – все эти меры принимались российскими властями сознательно и демонстративно, с тем чтобы показать полякам, кто здесь хозяин.
Уязвленные в своем национальном самолюбии поляки отвечали тем же, активно используя символические действия против российских властей: «Символические диверсии стали оружием слабых – людей, лишенных политической публичной сферы. И вот бурные аплодисменты на постановке гоголевского „Ревизора“ оказываются способом выразить критическое отношение к „русским порядкам“ в Царстве Польском. Или, нося публично траурную одежду, человек мог выражать свое недовольство политической ситуацией, а не посещая богослужения и молебны по случаю официальных праздников – заявлять о своем отказе подчиняться требованиям, навязанным чужой властью. Важными точками и моментами кристаллизации символического сопротивления были места и даты, связанные с польскими восстаниями против России, Пруссии и Австрии. Часто дань уважения „мученикам“ эпохи восстаний могла получать свое выражение в прогулке на местном кладбище и посещении могил повстанцев» [ Рольф , 2020, с. 234–235]. В этом контексте становится более понятной, например, чрезмерная, на первый взгляд, острота конфликтов накануне Первой мировой войны между правящими властями и польскими пожарными дружинами – единственной организацией, членам которой позволялось публично носить собственную униформу и которая, следовательно, выполняла роль «небольшой репрезентативной ниши для общества, лишенного права носить эмблемы суверенитета» [ Рольф , 2020, с. 463]. Не приходится удивляться, что российские чиновники и особенно цензоры в Польше политизировали символические действия польских подданных, прочно связывали их с «польским вопросом» и относились к ним крайне подозрительно, стараясь разоблачить и пресечь.
В политически острых ситуациях польские символические акты не только становились ответом на российскую политику памяти, но и обретали институциональную плоть. Так произошло, например, при подготовке российскими властями празднования 100-летия Бородинской битвы: в 1911–1912 гг. в Варшаве был создан нелегальный комитет национального траура, который призывал с помощью траурной одежды и отказа от навязываемых развлечений протестовать против празднования победы России над Наполеоном как пролога последнего раздела Польши на Венском конгрессе.
Но надежда умирает последней: изредка имело место не только негативное, но и неоправданно оптимистичное чтение символических актов российской администрации. Так случилось, например, в конце ХIХ в., когда варшавский генерал-губернатор А.К. Багратион-Имеретинский разрешил торжественно открыть в самом центре Варшавы, на улице Краковское Предместье, памятник Адаму Мицкевичу, олицетворявшему для поляков не только польскую культуру, но и борьбу за свободу. Впрочем, пищу для подобных вспышек надежды российская символическая и историческая политика царских чиновников в Польше давала редко.
Символическим наполнением отличались не только действительные или мнимые политические жесты, но и рутинные тексты, например, путеводители по Варшаве. Символическая топография русскоязычных путеводителей, адресованных русским путешественникам, превращала Варшаву в русский город, обращая их внимание на властные учреждения, районы обитания русской общины, места русской культуры и русские памятные места. Наиболее развитые и привлекательные польские районы в русских путеводителях не упоминались, зато в них включались невыигрышные места обитания местного населения, например, Старый город, «мир Других – католиков и евреев, ассоциируемый с грязью, нечистотами и зловонием» [ Рольф , 2020, с. 386]. В польских же путеводителях картина была прямо противоположной: русское присутствие в них всячески замалчивалось, а среди варшавских достопримечательностей отмечались те, что ассоциировались со временем до разделов Польши.
Символические акты рассматриваются М. Рольфом не только как показатель остроты и болезненности многолетней взаимной польско-российской подозрительности, но и как обоснование динамических процессов во взаимодействии оппонентов и их восприятия себя и друг друга. Так, автор констатирует гиперчувствительность местных русских националистов к символическим актам демонстрации лояльности царствующему дому и враждебности к полякам и прослеживает, как под их влиянием «российская» имперская политика мало-помалу этнизиро-валась и дрейфовала в сторону «русской». Отсутствие усилий российской администрации по привлечению польского общества к празднованию 100-летия Бородинской битвы убедительно интерпретируется М. Рольфом как отказ господствующей элиты «от всяких претензий на символическую интеграцию местного населения в общероссийский контекст. Поляки были уже практически потеряны для России как подданные, участвующие в ее жизни и ее праздниках» [ Рольф , 2020, с. 486].
Важность символической составляющей описываемого в книге М. Рольфа польско-российского взаимодействия и сосуществования на протяжении полутора веков очевидна. Любое современное исследование формирования проектов национальной идентичности и развития национальных движений опирается на конструктивистскую парадигму, имеющую в основе понимание нации как продукта «изобретенной традиции» и «воображаемого сообщества» [ Андерсон , 2016; Hobsbawm , Ranger, 1983], которое основывает, обосновывает и поддерживает свою целостность с использованием символов.
Но символические формы восприятия и поведения чрезвычайно важны и за пределами изучения национальных проектов идентичности и межнациональных конфликтов. Согласно социологии коммуникации символы являются репрезентациями репрезентаций. Они не обозначают предметы, а указывают на представления о них. Поэтому центральная проблема коммуникации вокруг символов – проблема общего языка. По мнению философа коммуникации Ви-лема Флюссера, «регулярно выстраиваемые из символов коды… являются мостами между человеком и миром… – они “означают” мир. Одновременно они являются также мостами между отдельными людьми: они должны означать мир для других, а это значит, они означают мир согласно “договоренности”. Однако любое соглашение о значении должно само быть относительно значимым» [ Flusser , 1998, S. 76–77]. В результате таких соглашений возникает достаточно устойчивый «кодифицированный мир» [Ibid . , S. 16].
Потребность в уютном, разделяемом с окружающими «кодифицированном мире» характерна, впрочем, не только для национального, но и для любого другого «воображаемого сообщества», будь то класс, гендер, поколение или иная общность, выходящая за рамки коммуникации лицом к лицу. Следовательно, конструируемый в ходе повседневной, будничной и праздничной, коммуникации символический, договоренный мир экзистенциально важен для любого из нас, равно как и для каждого из тех, кого историки именуют историческими акторами. Символы выступают, таким образом, в качестве опор «кодифицированного мира» как иллюзорного и, тем не менее, стабильного и ясного, привычного, родного и легко объяснимого социально-культурного пространства.
Поэтому если исходить из базового представления современной истории о том, что мы не можем адекватно объяснить прошлое, не зная о том, как воспринимали, понимали и интерпретировали себя и других, свое окружение и происходящее с ними и вокруг них исторические акторы, то символическое измерение исторического процесса приобретает первостепенное значение в качестве предмета, источника и исследовательского инструмента историка.
В книге М. Рольфа интерес к символической политике и практике обеих сторон польско-российского взаимодействия и конфликта концентрируется на периоде после январского восстания 1863 г. Именно здесь автору удается изящно менять исследовательскую перспективу в границах макро- и микроисторического подходов, добиваться ярких, запоминающихся зарисовок, формулировать оригинальные тезисы. С главами, начиная с третьей, несколько контрастирует вторая глава, посвященная российскому владычеству над польскими землями с 1772 до 1863 г., в ней традиционное, общее панорамное описание с высоты птичьего полета преобладает. Не приходится удивляться, что символическая составляющая польско-российского взаимодействия в главе отсутствует. Специально встроенная, видимо, по рекомендации издательства и российских коллег, в русское издание, эта глава опирается на солидную исследовательскую литературу, среди которой по частотности цитирования преобладают два автора [Долбилов, Миллер, 2007; Miller, Dolbilov, 2011], и не претендует на оригинальность. Находящаяся в начале книге, она создает для всей монографии некоторую тактическую угрозу: есть шанс, что читателю не хватит терпения дочитать эту сотню страниц до конца и перейти к гораздо более выигрышным последующим главам. Тем более, что вторая, обзорная, глава не очень тщательно встроена в переведенное на русский язык первоначальное, немецкоязычное исследование М. Рольфа. В стилистике главы ощущается желание сделать ее как можно более компактной, т. е. максимально уплотнить авторский текст и отказаться от иллюстраций и цитирования источников. А в заключении книги читатель неожиданно узнает, что книга посвящена особенностям пяти десятилетий имперского правления в Царстве Польском, между 1864 и 1915 г. [Рольф, 2020, с. 490–491].
За пределами этого досадного изъяна исследование М. Рольфа заслуживает пристального внимания российских коллег и активного включения их в ряд дискуссий. Среди них разговор об особенностях устройства и функционирования Российской империи в «долгом» XIX столетии, полемика о заметно убывающей эвристической ценности дихотомии «государство – общество» или, точнее, «реакционное государство» vs «прогрессивное общество», особенно для интерпретации взаимодействия имперского центра и западных окраин, обсуждение вопроса о роли символического наполнения восприятия и поведения исторических акторов.
Список литературы О роли символического измерения исторического процесса: читая книгу Мальте Рольфа о польских землях под властью Петербурга
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Кучково поле, 2016. 416 с.
- Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Мифы - эмблемы - приметы: Морфология и история: Сб. статей. М.: Нов. изд-во, 2004. С. 287-320.
- Долбилов М.Д., Миллер А.И. (ред.) Западные окраины Российской империи. М.: НЛО, 2007. 608 с.
- Миллер A. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. M.: НЛО, 2006. 248 с.
- Рольф М. Советские массовые праздники. М.: РОССПЭН, 2009. 439 с.