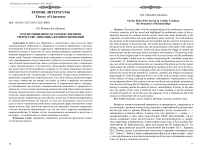О роли священного в художественном творчестве: динамика взаимоотношений
Автор: Миннуллин Олег Рамильевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
В работе мы обратились к осмыслению онтологической связи художественного творчества со священным и осветили проблемные узлы взаимоотношений эстетического и сакрального, оформившиеся исторически в опыте мировой культуры и искусства. В статье проанализирована динамика взаимоотношений прекрасного и священного в европейской культуре от Античности до наших дней. Описано изменение роли священного в художественно-творческом акте, трансформации статуса творческого субъекта, его легитимности и полномочий, которые происходили при смене культурно-исторических эпох, и связанного с ними художественного и поэтического самосознания. Нарастающее обособление искусства от религии приводит к разрыву его со своим священным истоком и проблематичности способности автора выступать в роли субъекта, переживающего «совокупный опыт человечества» (Т. Касаткина). Однако такая потребность и притязания сохраняются в творческом акте, это в свою очередь проблематизирует сам смысл творчества для автора, что влечет за собой и проблему постижения смысла произведения искусства реципиентом. В современной науке о литературе складываются два подхода к взаимоотношению священного и прекрасного в творчестве: эстетический и религиозно-аксиологический. Представители первого подхода стремятся видеть в произведении мгновенный чувственный образ полноты бытия, локализированный в эстетическом созерцании. Представители второго подхода мыслят творческий акт как событие, полностью не автономизирующееся от события бытия-жизни (М. Бахтин), то есть как обладающее онтологической серьезностью и полагающее свой смысл за пределами сферы чувственного созерцания, в бытии. При этом бытие мыслится как священное. Качество творческого события наделяется сверхсмыслом, так как оно носит характер своеобразного священнодействия. В первом случае подчеркивается автономность искусства, а во втором - его взаимосвязь со своим священным истоком.
Прекрасное, священное, религиозная филология, смысл, эстетическая ценность
Короткий адрес: https://sciup.org/149136577
IDR: 149136577 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00031
Текст научной статьи О роли священного в художественном творчестве: динамика взаимоотношений
Вопросы взаимоотношений священного и прекрасного, сакрального и поэтического, религии и искусства ставились в европейской культуре множество раз еще со времен Платона, назвавшего поэта «существом <...> священным» в диалоге «Ион». А ввиду того, что «красота <.. .> вещь <.. .> неопределимая», и «Бог задал одни загадки» (Ф.М. Достоевский), эти вопросы сохраняют свою неотступность. Они актуализируются в творческих практиках и рефлексиях, в философии искусства, в богословии. Неокантианцы (Б. Христиансен), такие мыслители как М. Хайдеггер и Г. Га-дамер, представители русской религиозной философии (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин), поэты и религиозные мыслители середины минувшего века (Т.С. Элиот, С. Вейль), наши современники-филологи и философы - ищут в этом проблемном поле ответы на вопросы об истоке и назначении искусства, его роли в событии человека.

Мы обратимся к осмыслению онтологической связи художественного творчества со священным и попытаемся пролить свет на некоторые «тёмные места» взаимоотношений эстетического и сакрального, оформившиеся исторически в опыте мировой культуры и творчества.
Описывая особый статус творческого субъекта в период классической Античности в статье «Авторство как право на смысл», современный фило-соф-диалогист А. А. Юдин указывает на событийный характер греческого искусства и изначальную укоренненость его в бытии, а не в инобытийном существовании, автономной сфере эстетического созерцания, изолированной от «события бытия-жизни» (М.М. Бахтин). Античный «автор относится к своему произведению как к акту <...> не как к тексту <...> мир для автора не распадается на мир жизни и мир культуры. Произведение -это прежде всего реальное время жизни, в которое оно встроено как акт и опыт, а не противостоящий этому времени мир текстов» [Юдин 2010, 12]. При этом бытие для эллина священно: оно мыслится как актуальное соприсутствие богов и людей. Следовательно, пережитое в творческом акте событие, будучи всеобщим социальным опытом, относимым ко всем членам сообщества, является фактически священнодействием, санкционированным свыше. Творческое событие является категорическим вмешательством верхнего мира в дела людей, освящающее их существование.
Поэтому греки и «разглядывали свои храмы», когда пребывали в них, как пишет религиозный мыслитель С. Вейль, в противоположность современному восприятию статуй в Люксембургском саду, на которые не смотрят и которые, как она выражается, скорее, «терпят» [Вейль 2008, 181]. В ситуации греческого храма созерцание являлось не меньшим священнодействием, чем само пребывание и сопровождающие его элементы культа, в то время как для современности область художественного восприятия существенно автономизировалась от бытия со священно-жертвенной вовлеченностью в него человека, неизбежно исстрачивающего свою телесную форму и ориентированного в событии жизни на духовную вертикаль.
Если для греческой культуры присутствие божества в формах ее художественно-образного выражения несомненно, то с приходом христианства смысл искусства изменяется. Греческая прямая воплощенность священного, его актуальное присутствие в скульптуре или гимне для христианства с его подходом к божественному как трансцендентному становится невозможной: «Произведение искусства - уже не божество, почитаемое нами» [Гадамер 1991, 269]. В Средневековье отношение к священному как являющему откровение (например, икона) уже может быть противопоставлено отношению к прекрасному (например, восприятию античной статуи или творчества Вергилия). Великие произведения Античности для средневекового сознания лишь подражают божественному в образе, хранят его «отблеск», но не являют его непосредственно. В противовес этому икона - не изображение святого, а его явление, вовлекающее в пространство священного всё вокруг. Сфера творчества и сфера религии существенно расходятся.

Оригинально комментируя классическую работу С.С. Аверинцева об авторе, А. Юдин прослеживает существенные сдвиги, которые происходили в отношении к институту авторства в ценностном аспекте в связи с отделением искусства от своего священного истока. Философ отмечает, что если для древних греков источник легитимации творчества заключался в религии, то позднее автор уже «лишен такого благословения неба и вынужден <...> искать источник легитимности своего творчества самостоятельно» [Юдин 2010, 9].
В эпоху Возрождения эстетическая сфера мучительно ищет автономного гуманистического самообоснования [Батикин 1989], опять же резко не разрывая отношений с религией. В утверждении смысла творчества новоевропейский автор неизбежно опирается на полномочия, до этого определявшиеся сферой священного, он частично заимствует их, и, безусловно, продолжает претендовать на способность выразить «совокупный опыт человечества» [Касаткина 2015, 18].
В «Трактате о живописи» Леонардо да Винчи прямо пишет: «...дух живописца превращается в подобие божественного духа, так как он свободной властью распоряжается рождением разнообразных сущностей», он творец, только с маленькой буквы “т”. Позднее индивидуальное начало достигнет некоторой критической массы в романтической фигуре гения, самого определяющего законы творчества (кто может «изведать тайны бытия» и открыть их миру? «Я или Бог, или никто...» у М.Ю. Лермонтова).
Прекрасное в Ренессансе - это, можно сказать, светский вариант священного, то, как возможно священное в ситуации секуляризированной культуры. Шлейф этого ренессансного представления о человеческом творчестве продолжает ощущаться до сих пор. Общий смысл искусства с этого момента может быть истолкован как возможность священного в десакрализованной действительности новой светской жизни.
В Новое время человек ищет духовную опору в том числе и в искусстве, которое конкурирует с религией в борьбе за право идеологического первенства. Вспомним классицистическую категорию пользы в творческом акте. Эта категория может быть понята, в том числе, и как духовная (даже душеспасительная!) польза для человека, то, что раньше была способна дать только вера. Требуя от искусства духовного облагораживания и взращивания человека, общественная мысль неосознанно формулирует не столько требование к музе художника быть «послушной» «велению Божьему», сколько вызов взять на себя львиную долю ответственности за смысловой горизонт человека.
Безграничная вера в силу искусства и непомерные упования на него достигают своего предела в культуре XIX столетия. В этом контексте Г. Гадамер пишет о «мессианском сознании художника» [Гадамер 1991, 270] и «почти религиозной роли искусства» [Гадамер 1991, 280] в XIX в. Но перед художественным творчеством всё острее встает альтернатива: либо искать обоснование своих прав и претензий на смысл только в самом себе или же осуществлять себя, черпая силы из своего священного истока,
ориентируясь в пределе на религию и ее духовный опыт. Теперь уже священный исток и секулярная повседневность драматично соприсутствуют в акте творчества как несводимые друг к другу величины: прекрасное становится «всеоживляющей связью» (Гёте) «разрывов бытия», в том числе разрыва между священным и профанным, божественным и земным в человеческой жизни.
Творчеству, утратившему непосредственную принадлежность к сфере священного, порой удается восстановить эту связь даже в полном потрясений и крушений духа XX в. Приведем знаменитые слова Г. Гадамера, вполне выразившего положительный смысл искусства в минувшем веке: «Красота, сколь бы неожиданно она не возникала, уже как бы залог того, что истинное не пребывает где-то там, в недосягаемой дали, а идет нам навстречу <...>. В этом заключается онтологическая функция прекрасного-. перебросить мост через пропасть, разделяющую идеальное и реальное» [Гадамер 1991, 280]. Прекрасное, имея свое собственное место, мыслится здесь вполне в религиозном духе, представляясь неким мгновенным обещанием вечной жизни, сопричастность которой человек ощущает при встрече с ним.
Аналогичные размышления, но сформулированные со стороны религиозного мировоззрения, находим в дневнике, который вела С. Вейль во время войны: «Всё то, что дает нам чистое и подлинное чувство прекрасного, воистину отмечено Божьим присутствием. Как будто Бог снова и снова воплощается в мире, и знак такого Боговоплощения - красота. Поэтому любое первоклассное искусство - по сути религиозно... Григорианское пение свидетельствует не меньше, чем смерть мученика» [Вейль 2008, 183].
Сегодня XX в. всё больше видится нами уже в перспективе какого-то «прекрасного далёка», когда такие переживания и размышления искренни, неподдельны. И все острее звучит вопрос, насколько правомерны подобные притязания искусства. Сама возможность отношения к произведению искусства как к священному разрушается, достигая критической отметки в современности. Кризис авторства, осознанный литературоведением во второй половине XX в., интерпретируется как кризис легитимности творческого субъекта, кризис его правомочности, претензии на смысл и связанные с этим ценностные отношения к произведению. Это «кризис права автора выступать в своей идеальной ипостаси в качестве субъекта универсального опыта» [Юдин 2010, 14-15], проводника священных смыслов, испытывающего в творческом акте «корчи и муки» духа человечества.
Г. Гадамер спрашивает: «Станет ли искусство когда-нибудь самим собой и ничем иным?» [Гадамер 1991, 284]. В качестве ответа выразим надежду, что этого полностью и до конца никогда не произойдет, потому что, разрывая со своим священным истоком, утрачивая онтологическое измерение, искусство постепенно просто потеряет ценность, истончится до призрачности и исчезнет за ненадобностью как лишенное подлинной духовной силы. Конечный смысл искусства всегда простирается за
его собственные пределы и, по-видимому, превышает его действительные возможности.
В своей «Философии искусства», написанной больше ста лет назад, Б. Христиансен размышляет о способности художественного творчества возвышать человеческую экзистенцию до «высшего круга бытия», давать «голос молчанию внутри нас» [Христиансен 1911, 158]. Казалось бы, разве не о подступах к священному говорит датский мыслитель, не о почти религиозном смысле искусства? Однако ниже на той же странице мы читаем: «Искусство не дает в действительности ни идеалов, ни действий. Мы знаем, что нас ведут, что сами мы безмолвно отдаемся; и когда наступил конец, у нас нет новой веры, и мы не знаем, что нам делать. Нам казалось, что мы это знали, но это был обман. В этой обманчивой игре одно мы постигаем несомненно: самих себя» [Христиансен 1911, 158]. Много это или мало? С одной стороны, эта перспектива одностороннего, только человеческого, лишенного доступа в тот заветный круг бытия опыта искусства выглядит тупиковой. Но, с другой стороны, в отчаянии рождается надежда. Эту самоактуализацию человеческого я, возникающую в соприкосновении с прекрасным, нельзя ли назвать вслед за Н. Бердяевым «откровением о человеке» [Бердяев 1989, 571], приведением к очевидности его метафизической глубины, неотделимой от Абсолюта?
В работе «Нужны ли поэты?» (1950) М. Хайдеггер называет пришедшее время «мировой ночью» или «священной ночью», когда человек забывает о священном и не замечает отсутствия божественного. Оправдание поэзии, согласно мысли философа, состоит в особой отваге, необходимой для способности рисковать и опускаться в глубину этой беспросветной бездны, возвращение из которой являет след божественного в виде красоты. Поэтов «скудной эпохи» мыслитель называет «певцами спасительного блага»: «Наиболее отважно-рискующие познают в неисцелимо-ужасном беззащитное бытие. Во мраке мировой ночи они приносят смертным след сбежавших богов» [Хайдеггер 2008, 83].
В современной гуманитарной науке наметились два подхода, описывающие характер взаимоотношений священного и прекрасного, связанные с разным пониманием смысла художественного творчества, его ценностной природы, истоков и пределов: эстетический и религиозно-аксиологический.
В первом случае искусство мыслится в главном своем содержании именно и только как искусство, исторически отделившееся от сферы священного. Ценностный смысл художественного творчества замыкается на нем самом. Священное может входить в эстетическое событие как материал, как тема и т.п., но не может выступать главным содержанием художественного акта, направляющим все в творческом процессе (как это описано, например, у И.А. Ильина [Ильин 1996, 54-55]).
Второй подход утверждает: искусство - это больше, чем только искусство, и лишь так оно вполне есть то, что оно есть. Полный разрыв со священным невозможен, так как его присутствие в художественном творче-
стве связно с самой его природой и конечной целью. Художественное произведение понимается как некое особое преддверие священного или его иноформа, ценностное оправдание искусства заключено за его пределами.
Близкий этому водораздел в понимании творчества осуществляет в рамках полемики о религиозной филологи В.С. Непомнящий [Непомнящий 2001, 524-572]. Литературовед приводит две формулировки смысла и назначения поэтического творчества, данные А.С. Пушкиным в разные периоды его жизни: 1) «цель поэзии - поэзия» (1825); 2) «цель художества есть идеал» (1836). Далее ученый разъясняет своё понимание этого идеала: «...поэзия может - через данные ей средства, свойства и условия -если не достигнуть, то приобщиться “идеалу”, этой Божественной целостности, тяготея к ней как к своему источнику...» [Непомнящий 2001, 550]. Идеал соединяет истину, добро и красоту в целостной гармонии. Когда же в понимании поэзии красота «заслоняет» остальные проявления духа в их целокупном единстве, то получается, как будто дело поэта «и недобро, и неистинно» [Непомнящий 2001, 566], а это едва ли соответствует действительному назначению творчества.
Эстетический подход видит в качестве предела мгновенное переживание в чувственном опыте созерцания Красоты, которое возможно в акте искусства, в деятельности художника. Религиозно-аксиологический подход толкует творческое состояние онтологически как бытие, никогда полностью не автономизирующееся от «события бытия-жизни» и обладающее онтологической серьезностью.
В плоскости преимущественно эстетического видения лежат размышления С.Г. Бочарова, высказанные в той же дискуссии: «Перед судом религиозной филологии сама поэзия утрачивает ту свободу и сложность своего положения между лежащей под нею жизнью и высшим духовным началом и свободу вопрошания в обе стороны, какую она обрела на независимом своем пути...» [Бочаров 2001, 493]. Для этого подхода сфера эстетического и связанная с ней палитра инобытийных состояний не сводимы к любому другому опыту человека, в том числе встрече со священным. Эстетическое здесь по-своему абсолютизируется, осмысливаясь в широком диапазоне: от классической формулировки «смысл искусства заключен в нем самом» до эстетского и в перспективе самоотрицающего тезиса «искусство ради искусства».
Взаимосвязь со священным в этом случае понята как скорее затемняющая понимание сущности искусства, смещающая фокус исследовательского внимания на иную проблематику. Такая позиция выражена, например, в статьях А.В. Филатова. Комментируя работу И.А. Есаулова «Литературоведческая аксиология...», он пишет: «Есаулов кладет в основу русской культуры религиозные ценности, что <...> упрощает и сужает ее содержание» [Филатов 2019, 133]. Радикальная опора на «готовую ценностную систему», в первую очередь, религиозную, относимую к пониманию литературного произведения, сковывает живую исследовательскую мысль. А.В. Филатов соглашается с тем, что религиозная филология в обращении
к творчеству писателей, чье мировоззрение и, соответственно, система ценностей имеют христианскую основу, продемонстрировала существенные результаты. Но в главном ученый разделяет мнение К.К. Султанова, согласно которому религиозный ценностно-смысловой контекст лишь один из возможных, и распространять эту «форму сознания» на истолкование «всего и вся», в том числе на понимание искусства, нельзя [Султанов 2001, 4]. Даже в случае явной обращенности (тематической, структурной и др.) конкретного художественного произведения к священному в том или ином виде, последнее при этом подходе мыслится как пережитое по эстетическим законам.
В исследованиях художественного творчества, придерживающихся этих «законных» границ, часто присутствует много верного. Однако почти всегда при чтении таких работ остается неудовлетворенное чувство не-сказанности главного о произведении и через него о человеке. Как будто, дойдя до известной черты, проникнув на позволительную науке глубину, исследователь останавливается. В худших случаях возникает даже ощущение боязливой «стерильности» литературоведческого суждения, чопорного «целомудрия» филологической дистанции, продиктованного чувством опасности выхода за пределы научной строгости в сферу субъективно-мировоззренческих оснований и широко мыслимой идеологии. Приходится напоминать о «другой научности» (ТА. Касаткина), «гуманитарной научности» (В.С. Непомнящий), проявляющейся при обращении к духовнотворческой жизни человека.
Своеобразное объективно-научное описание взаимосвязи религии и художественного творчества предлагает в работе «Онтологические и структурные схождения религиозного и художественного дискурсов» Н.А. Бакши [Бакши 2016]. В качестве существенной характеристики, которая может быть отнесена и к художественному творчеству, и к опыту религии, в работе Н.А. Бакши названа «виртуальность». При пояснении «виртуальности» сакрального упор в аргументации делается на его недоказуемости и невозможности научной верификации событий религиозного порядка. Лингвист пишет: «Виртуальность заключается в том, что целостный мир художественного произведения и существование героя невозможно без креативного субъекта и воспринимающего произведение адресата. Также, в сущности говоря, обстоит дело и с сакральной действительностью...» [Бакши 2016, 14]. Приходится принципиально возразить, что вопрос о «виртуальности» в художественной рецепции и опыте встречи со священным решается существенно неодинаково. Для религиозного сознания сакральное не «виртуально», оно обладает модусом «реального», даже реального maxime. Священное здесь единственно реальное, реальнейшее.
Если прибегать к «хромающим аналогиям», то «художественный дискурс» попадет в категорию «вымышленного повествования», а религиозный, в категорию повествований, которые предполагают установку на подлинность, которым «следует верить», повествований, которые включа-
ют в себя моё бытие. Но здесь различие неизмеримо больше, чем между сказкой и мифом. Однако же в классическом искусстве через чувственное (эстетическое) переживание этого «вымышленного повествования» на мгновение оказывается доступным полнота бытия и в его сакральном содержании. И эта возможность художественного «откровения» никогда до конца не уходит из подлинного творчества. Поэтому плодотворнее вести речь не о внешнем сходстве «виртуальных реальностей» искусства и религии, а о «реальности виртуального» в генетической связи художественного опыта и опыта переживания священного. Острее эта связь чувствуется в произведениях с религиозной тематикой (например, «Студент» или «Архиерей» А.П. Чехова, «Запечатленный ангел» Н.С. Лескова, «Идиот» или «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского).
Задача интерпретатора - увидеть уникальное отношение различных проявлений духа в произведении, их обращенность друг к другу, инако-вость, но и глубинное родство, являемое художественно-творческим актом, увидеть эстетическое событие в свете смысла человеческого бытия «по вертикали», а значит, в соотнесенности со священным. Познавательные плоды этого религиозно-аксиологического подхода к творчеству богаче и глубже, чем в случае эстетического взгляда, но и риски (тенденциозности, риторичности, субъективизма, подмены предмета размышлений) при таком взгляде на смысл творчества несоизмеримо выше.
Поэт Т.С. Элиот настаивал на характерном аксиологическом компоненте литературный теории. Он писал: «Литературную критику необходимо дополнять критикой с определенной этической и богословской позиции <...>. Величие литературы не может определяться исключительно критериями литературными, хотя <.. .> принадлежность того или иного явления литературе может определяться только литературными критериями» [Элиот 2007, 210]. Главной заботой подлинного художественного творчества Т.С. Элиот называет утверждение «сверхприродной жизни» над природной. Стало быть, обращающийся к осмыслению литературы должен быть озабочен не эстетическим аспектом творчества, а онтологическим.
Однако следует помнить, что в искусстве священное обнаруживает себя иначе, чем в непосредственном акте веры. Забвение эстетической специфики художественного творчества едва ли будет способствовать точности понимания и плодотворности углубления в «сплошной контекст» бытия, открывающийся через художественное произведение. Нахождение меры здесь трудная, но не допускающая невнимания задача.
Приведем характеристику творчества Ф.М. Достоевского, которая была дана В.В. Розановым: «...навсегда Достоевский останется <...> наиболее “священным” из наших писателей, ибо он совершенно перешел грани литературы, отчасти разрушив их <...> и передвинувшись в сторону, где вообще все полагают “священное”, полагают “религиозное” в первобытном смысле...» [Розанов 2017, 164]. При этом далее следует существенное уточнение: «Все слабости Достоевского - при нем <...> и может быть из идей его - ни одна не истинна. Но тон его истинен, и
срока этому тону никогда не настанет...» [Розанов 2017, 164]. Что значит «тон», что в нём? Особая позиция, отношение к предмету и собственное мироощущение, открывающееся именно в художественном высказывании писателя, наконец, не в последнюю очередь сама специфичность этого высказывания как художественного жеста. В.В. Розанов не забывает, что в «богословии» Достоевского существенна его художественная форма, не в плане какого-то ограничения масштаба и онтологической серьезности этого высказывания, а в плане его своеобразия, коренным образом связанного с этой серьезностью. Может быть, сама художественная форма парадоксально выступает её гарантом: ведь именно «тон» Достоевского в размышлении философа не имеет «срока».
Итак, эстетическое есть лишь minimum minimorum, с которого начинается беседа о художественном опыте и том главном, что в нем открывается как некая актуально являемая перспектива. Главное же усматривается в онтологии художественного свершения-, стержневую ценность составляет не переживание, являемое в мгновенном ощущении, а бытие и смысл, открывающиеся в этом переживании, стоящие «за» ним, но без этого особого оформления не способные явиться, воплотиться. Плодотворнее постигать смысл творчества во взаимосвязи сфер священного и прекрасного, выходя за пределы узко понятой эстетики в пространство такой философской антропологии, в которой человек понимается как существо, находящееся в творческом процессе самообретения, в движении к такому себе, который соответствует божьему замыслу о человеке.
Список литературы О роли священного в художественном творчестве: динамика взаимоотношений
- Бакши Н.А. Онтологические и структурные схождения религиозного и художественного дискурсов // Новый филологический вестник. 2016. № 2 (37). С. 12-22.
- Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука, 1989.
- Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989.
- Бочаров С.Г. О религиозной филологии // Литературоведение как проблема: сборник науч. трудов памяти А.В. Михайлова / под ред. Т.А. Касаткиной. М.: Наследие, 2001. С. 483-499.
- Вейль С. Тяжесть и благодать / пер. с фран. Н.К. Ликвинцевой. М.: Русский путь, 2008.
- Гадамер Г. Актуальность прекрасного / пер с нем.; сост. М.П. Стафецкой. М.: Искусство, 1991.
- Ильин И.А. Основы художества. О совершенном в искусстве // Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6. Кн. 1. М.: Русская книга, 1996. С. 51-182.
- Касаткина Т.А. Священное в повседневном: Двусоставный образ в произведениях Ф.М. Достоевского. М.: ИМЛИ РАН, 2015.
- Непомнящий В.С. О горизонтах познания и глубинах сочувствия // Литературоведение как проблема: сборник науч. трудов памяти А.В. Михайлова / под ред. Т. А. Касаткиной. М.: Наследие, 2001. С. 524-572.
- Розанов В.В. От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России. М.: Алгоритм, 2017.
- Султанов К.К. Национальное самосознание и ценностные ориентации литературы. М.: Наследие, 2001.
- Филатов А.В. Аксиология в теории литературы: основные направления ценностного анализа // Сибирский филологический журнал. 2019. № 4. С. 130140.
- Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. с нем. А.В. Михайлова. М.: Академический проект, 2008.
- Элиот Т.С. Религия и литература // Элиот Т.С. Избранное: Религия. Культура. Литература / пер. с англ. А.Н. Дорошевича. М.: РОССПЭН, 2007. С. 210-224.
- Юдин А.А. Автор как право на смысл // Литературоведческий сборник. Вып. 39-40. Донецк: Донецкий национальный университет, 2010. С. 6-16.