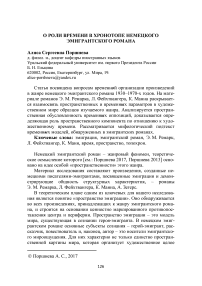О роли времени в хронотопе немецкого эмигрантского романа
Автор: Поршнева Алиса Сергеевна
Журнал: Мировая литература в контексте культуры @worldlit
Статья в выпуске: 6 (12), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам временн о й организации произведений в жанре немецкого эмигрантского романа 1930-1970-х годов. На материале романов Э. М. Ремарка, Л. Фейхтвангера, К. Манна раскрывается взаимосвязь пространственных и временн ы х параметров в художественном мире образцов изучаемого жанра. Анализируется пространственная обусловленность временн ы х оппозиций, доказывается определяющая роль пространственного компонента по отношению к художественному времени. Рассматривается мифологический подтекст временн ы х моделей, обнаруженных в эмигрантских романах.
Эмиграция, эмигрантский роман, э. м. ремарк, л. фейхтвангер, к. манн
Короткий адрес: https://sciup.org/147230260
IDR: 147230260
Текст научной статьи О роли времени в хронотопе немецкого эмигрантского романа
Немецкий эмигрантский роман – жанровый феномен, теоретическое осмысление которого [см.: Поршнева 2017, Поршнева 2013] основано на идее особой «пространственности» этого жанра.
Материал исследования составляют произведения, созданные немецкими писателями-эмигрантами, посвященные эмиграции и демонстрирующие общность структурных характеристик, – романы Э. М. Ремарка, Л. Фейхтвангера, К. Манна, А. Зегерс.
В теоретическом плане одним из ключевых для нашего исследования является понятие «пространство эмиграции». Оно обнаруживается во всех произведениях, принадлежащих к жанру эмигрантского романа, и строится на основании ценностно маркированного противопоставления центра и периферии. Пространство эмиграции – это модель мира, существующая в сознании героя-эмигранта. В немецком эмигрантском романе основные субъекты сознания – герой-эмигрант, рассказчик, повествователь и, наконец, автор – это носители эмигрантского мироощущения. Для них характерно не только единство пространственной картины мира, которая организует художественное целое
романа; время в произведениях этого жанра – это перцептуальное время героя-эмигранта. Перцептуальное время субъекта [см.: Зобов, Мос-тепаненко 1974: 18–19] в большинстве случаев основывается на противопоставлении прошлого, настоящего и будущего; в немецком эмигрантском романе эти фазы времени героя соответствуют фазам пространства. Темной (центральной) зоне соответствует прошлое, периферийным кольцам – настоящее, окраине – будущее. Действие эмигрантского романа отнесено чаще всего к периоду пребывания героя в периферийной зоне (не-немецкая Европа), когда Германия уже осталась в прошлом, но передвижение в пространстве еще не завершено и перемещение в одну из окраинных стран герою только предстоит.
Проиллюстрировать взаимосвязь пространственных и временных единиц можно, например, на материале Анны Траутвайн, героини романа Лиона Фейхтвангера «Изгнание». Она принадлежит к числу тех героев, которые, оказавшись в эмиграции и совершая акт аксиологического самоопределения, не могут привести свою систему ценностей в соответствие с центробежной ориентированной аксиологией пространства [см.: Поршнева 2012]. У Анны эмиграция приводит к депрессии и ностальгии по Мюнхену: «Она снова вынуждена была болезненно ощутить разницу между ее настоящим и ее прошлым. <…> Как серьезно и в то же время с каким комфортом могла бы она организовать такой вечер в своем …мюнхенском доме. Но здесь, в Париже, нет никакого дома. <…> Здесь все расплывалось в смутной безличности» [Feuchtwanger 1976: 366; здесь и далее перевод наш. – А.П .].
Еще один показательный факт – сон Анны, который она видит незадолго до смерти. В этом сне «она была в Германии. Она шла к своей матери, с Зеппом. Мать терпеть не могла Зеппа, да и она уже давно была мертва» [Feuchtwanger 1976: 528]. Сон отражает желание Анны вернуться к матери и в материнское пространство Мюнхена [подробнее см.: Поршнева 2012]; а поскольку мать мертва, то и возвращение к ней – это путь в прошлое. Для Анны возвращение в Мюнхен и возвращение в прошлое – одно и то же; прошлому как участку временн о й шкалы соответствует центральная зона пространства эмиграции.
Это соответствие проговаривается и у Клауса Манна в его романе «Вулкан» применительно к одному из его героев – Мартину Корелла. Живя в Париже в эмиграции, он, подобно Анне Траутвайн, начинает испытывать тоску по родному городу – в его случае это Берлин. Размышляя об этом, герой конкретизирует свои ощущения так: «Нет, в Берлине я жить не хочу. <…> Там отвратительно. Я тоскую по своему собственному детству. Я хочу снова играть в бабки или крокет с Марион в саду, и выслушивать брань отца по поводу того, что я опоздал домой к ужину. Какие это были хорошие времена! По ним я и тоскую…» [Mann 1999: 92].
Из этих размышлений Мартина видно, что его тоска «по дому, по берлинским улицам» [Mann 1999: 92] – это в то же время и тоска по «хорошим временам», «по своему собственному детству». Покинутый Берлин вызывает у героя двойственные чувства: Берлин настоящего – отвращение, а Берлин прошлого – ностальгию.
Что же касается будущего, то оно, напротив, связывается с образами окраины пространства эмиграции. В этом плане очень показательны следующие фрагменты романов Э. М. Ремарка «Тени в раю» и «Земля обетованная», посвященные «футуристичному» городу Нью-Йорку:
- «Это был город из камней и стали, и он производил впечатление того, чем он и был: он не появился постепенно и не вырос органично, не был покрыт патиной веков, а был решительно и быстро построен решительными людьми, которые не были отягощены традициями и высшим законом для которых была не красота, а целесообразность – а тем самым и новая, дерзкая, антиро-мантическая, антиклассическая, современная красота» [Remarque 1998: 269].
-
- «…чужой город, в котором не было ничего от воспоминаний и традиций. Никаких воспоминаний. Он был новый и полный кипучего будущего» [Remarque 1971: 261].
-
- «Передо мной лежал Нью-Йорк, город без прошлого, город, который не вырос, а был очень быстро построен людьми, город из камня, цемента и бетона. Мне было видно все до Уоллстрит. Людей видно не было; только автоматические дорожные знаки и ряды автомобилей. Это был футуристичный город» [Remarque 1998: 301].
Самая важная черта Нью-Йорка в восприятии ремарковских героев-эмигрантов – то, что этот город свободен от прошлого, так как прошлое для них – это Германия и связанные с ней травмы. Причем отсутствие прошлого присуще не только Нью-Йорку, но и всей Америке: в романе «Тени в раю» она прямо названа «молодым континентом» [Remarque 1971: 373] – в противоположность «старому континенту» Европе.
Аналогичным образом противопоставление окраины центральной и периферийным территориям выглядит в прямой речи героев романа «Изгнание», которые актуализируют одну из предлагаемых мифом временн ы х моделей – модель, связанную со сменой поколений.
Похожие мысли в отношении матери, Анны Траутвайн, посещают и самого Ганса: «Мать принадлежала к злополучному поколению, поколению, которое было предопределено к гибели, поколению, которое сотворило бесцеремонную, глупую, империалистическую войну и которое сейчас идет ко дну в страшных искривлениях и судорогах.<…> Сам Ганс не понимает, как можно капитулировать без борьбы. Но принадлежащих к предыдущему поколению, как мать, сложно упрекать, если они дезертируют» [Feuchtwanger 1976: 550]. Родительский мир в глазах героя – это «злополучное поколение» [Feuchtwanger 1976: 550], «прогнивший старый мир» [Feuchtwanger 1976: 550], «потерянное поколение» [Feuchtwanger 1976: 551], не способное ни противостоять национал-социализму, ни заниматься полноценной созидательной деятельностью. А противопоставлен этому «старому миру» новый – динамичный и молодой, «первые люди третьего тысячелетия» [Feuchtwanger 1976: 641]. Герой Фейхтвангера называет такими словами жителей Советского Союза – одной из стран, составляющих окраинное «кольцо» пространства эмиграции.
Структура времени в сознании Ганса соответствует пространственным оппозициям. Старшее поколение, представителями которого являются его родители и которое связано с Германией (центром) и Европой (периферией), он воспринимает как отжившее и утратившее силу. Сам он намерен присоединиться к новому, которое проживает на окраине мира и представители которого занимаются преобразованием хаоса в порядок, строя свое государство на разумных основаниях. Ганс хочет переехать в Советский Союз именно для того, чтобы «делать то, к чему предназначен, – естественное, разумное.<…> Если только мы за это возьмемся, мы устроим все лучше. Это будет мир, в котором никому не устраивают ненужных испытаний…» [Feuchtwanger 1976: 550–551].
Эксплицированная в размышлениях и речи героев Фейхтвангера оппозиция поколений позволяет наложить на их модель мира не только пространственную, но и временную мифологическую модель. В античной мифологии есть два сюжета смены поколений. Один из них изложен Гесиодом в поэме «Труды и дни» и представляет собой историю постепенного ухудшения человеческого рода, который проходит стадии золотого, серебряного, медного века, века героев и железного века [Гесиод 2001]. Другой сюжет – именно он актуален для романа «Изгнание» – смена поколений богов: поколения гигантов и титанов, персонифицирующих стихийные силы природы, сменяются младшим поколением богов-олимпийцев, воплощающих космический порядок и гармонию. Как отмечает Е. М. Мелетинский, «в космогонических мифах развитых мифологических систем упорядочивающая деятельность богов более ясно и полно осознается как преобразование хаоса, т.е. состояния неупорядоченности, в организованный космос, что составляет в принципе главнейший внутренний смысл всякой мифологии» [Мелетинский 2000: 205]. В категориях хаоса и порядка осмысливают противопоставление поколений и герои Фейхтвангера. Уравнять старшее с силами хаоса Гансу и Меркле позволяет в первую очередь факт его участия в «глупой, империалистической войне» [Feuchtwanger 1976: 550], которая и ввергла Европу в состояние неупорядоченности. Себя же самого и советских людей Ганс тем самым уравнивает с богами-олимпийцами, создающими упорядоченный, кос-мичный мир, «естественное, разумное» [Feuchtwanger 1976: 550]. Остаточный же хаос, который в мифе вытеснен на периферию мира, в мире Ганса помещен в его центр; строительство разумного мира осуществляется на окраине. Для осмысления и временных, и пространственных отношений герои Фейхтвангера используют модели, предлагаемые классическими формами мифа, причем временная модель (смена поколений богов) «подстраивается» под особенности функционирования пространственных оппозиций.
Помимо античного мифа о смене поколений богов, немецкий эмигрантский роман пользуется и другими мифологическими включениями, в частности, библейскими, а также образами германо-скандинавской мифологии. Герои-эмигранты сравнивают себя с таким персонажем Библии, как Агасфер. Госпожа Фрислендер, героиня романа «Тени в раю», во время празднования по случаю получения семьей американского гражданства говорит: «Время Агасфера закончилось» [Remarque 1971: 442]. Обращение к «сильной» временн о й точке библейского сюжета (завершение странствия Агасфера) вызвано событиями пространственного порядка, а именно – прибытием героев-эмигрантов в одну из окраинных стран.
Помимо этого, Ремарк обращается и к сюжету всемирного потопа, а корабли, идущие из европейских портов в Америку, сравнивает с Ноевым ковчегом [Remarque 2005: 13] (то же самое делает и Анна Зегерс в «Транзите» [Зегерс 1974: 143]). Происходит это в связи с началом Второй мировой войны в сентябре 1939 года и последовавшей за этим оккупацией Франции, которая воспринимается эмигрантами как расширение темного мира. Эти же события – приближение и затем начало войны – в романе «Триумфальная арка» описываются словами «Закат цивилизации. Усталые, бесформенные сумерки богов» [Remarque 2000: 104]. Расширение темного мира, экспансия Третьего рейха – эти пространственные метаморфозы «включают» соответствующий ассоциативный ряд и побуждают героев-эмигрантов проводить параллели между современностью и знаменитыми мифологическими катастрофами – ветхозаветным потопом и германо-скандинавским Рагнареком. Эти эсхатологические катастрофы образуют особые точки временной шкалы, где история человечества совершает радикальный поворот.
На этом основании можно констатировать, что взаимосвязь пространственных и временн ы х компонентов в эмигрантской картине мира специфична: первично в этой связке не время, а пространство. Определяющую роль играют тот факт, что герой переместился в качественно отличное от периферийных окраинное «кольцо», и то, что центральная часть пространственной модели расширила свои границы и подчинила себе часть периферийных территорий. А установление параллелей между «своим» временем и мифологическим, соответственно, вторично.
Достаточно долго принято было считать, что в литературном произведении в связке «пространство – время» ведущую роль играет время. Г. Э. Лессинг, в частности, объявил литературу «искусством, образы которого обладают временной протяженностью» [цит. по: Хализев 2000: 212]. Современный теоретик В. Е. Хализев также отмечает, что «временные начала словесной образности имеют большую конкретность, нежели пространственные» [Хализев 2000: 213]. Это свойство литературного произведения зафиксировано в термине «хронотоп». Однако в немецком эмигрантском романе мы наблюдаем обратную закономерность: «ведет» здесь пространство, а время оказывается во многом производным от него.
Соответственно, можно констатировать, что наш материал наглядно иллюстрирует концепцию топохрона. М. Н. Эпштейн определяет этот термин, разработанный в дополнение к предложенному М. М. Бахтиным понятию «хронотоп», как «пространственновременной континуум, культурно-историческая среда, в которой пространству принадлежит более важная роль, чем времени» [Эпштейн: URL]. Его появление в гуманитарных науках вызвано тем, что значимость пространственных категорий в литературе ХХ века очень возросла. Понятие «топохрон», работает, согласно Эпштейну, в тех случаях, когда «хронос …вытесняется и поглощается топосом» [Эпштейн: URL]. Именно это и наблюдается на материале немецкого эмигрантского романа – одной из новых модификаций романного жанра, воз- никшей как результат осмысления масштабных исторических катастроф ХХ столетия.
Список литературы О роли времени в хронотопе немецкого эмигрантского романа
- Гесиод. Полное собрание текстов: Теогония. Труды и дни. Щит Геракла. Фрагменты. М.: Лабиринт, 2001. 256 с.
- Зегерс А. Транзит // Зегерс А. Восстание рыбаков в Санта-Барбаре. Транзит. Через океан / пер. с нем. М., 1974. С. 92-331.
- Зобов Р. А., Мостепаненко А. М. О типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. С. 11-25.
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Восточная литература, 2000. 408 с.
- Поршнева А. С. Динамика пространства эмиграции в романе Клауса Манна «Вулкан» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 3 (23). С. 145-151.
- Поршнева А. С. Жанр эмигрантского романа в немецкой литературе 1930-1970-х годов: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2017. 37 с.
- Поршнева А. С. Мюнхен в романе Лиона Фейхтвангера «Изгнание» // Мировая литература в контексте культуры. 2012. Вып. 1 (7). С. 95103.
- Хализев В. Е. Теория литературы. Изд. 2-е. М.: Высшая школа, 2000. 398 с.
- Эпштейн М. Н. Проективный словарь философии. Новые понятия и термины. № 7 // Топос. 2004. 2 сентября. URL: http://www.topos.ru/ articles/0402/04_04.shtml (дата обращения: 18.11.2016).
- FeuchtwangerL. Exil. Berlin: Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1976. 794 S.
- Mann K. Der Vulkan: Roman unter Emigranten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1999. 572 S.
- Remarque E.M. Arc de Triomphe. СПб.: КОРОНАпринт: КАРО, 2000. 480 с.
- Remarque E. M. Das gelobte Land. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1998. 442 S.
- Remarque E. M. Die Nacht von Lissabon. СПб.: КАРО, 2005. 384 с. Remarque E. M. Schatten im Paradies. Stuttgart; Hamburg; München: Deutscher Bücherbund Stuttgart, 1971. 480 S.