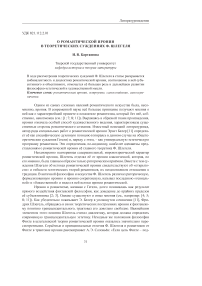О романтической иронии в теоретических суждениях Ф. Шлегеля
Автор: Карташова Ирина Вячеславовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
В ходе рассмотрения теоретических суждений Ф. Шлегеля в статье раскрывается амбивалентность и диалектика романтической иронии, соотношение в ней субъективного и объективного, отмечается её большая роль в дальнейшем развитии философско-эстетической и художественной мысли.
Романтическая ирония, остроумие, самосозидание, самоограничение
Короткий адрес: https://sciup.org/146278400
IDR: 146278400 | УДК: 821.112.2.01
Текст научной статьи О романтической иронии в теоретических суждениях Ф. Шлегеля
Одним из самых сложных явлений романтического искусства была, несомненно, ирония. В современной науке всё большее признание получают мнения о ней как о характернейшей примете и показателе романтизма, который без неё, собственно, невозможен (см.: [1; 7; 8; 11]). Выражаясь в образной ткани произведения, ирония означала особый способ художественного видения, характеризовала существенные стороны романтического сознания. Известный немецкий литературовед, автор ряда специальных работ о романтической иронии Эрнст Белер [11] определяет её как специфическую духовную позицию (опираясь в данном случае на общетеоретические суждения Гегеля) и, наряду с этим, – как универсальную эстетическую программу романтиков. Эти определения, по-видимому, наиболее адекватны представлениям о романтической иронии её главного теоретика Ф. Шлегеля.
Неоднократно подчеркивая содержательный, мировоззренческий характер романтической иронии, Шлегель отделял её от иронии классической, которая, по его мнению, была главным образом только риторическим приёмом. Вместе с тем суждения Шлегеля об истоках романтической иронии свидетельствуют об «открытости» и гибкости эстетических теорий романтиков, их неоднозначном отношении к традиции. В античной философии и искусстве Ф. Шлегель различал риторическую, формализованную иронию и иронию сократовскую, называл последнюю «гениальной» и «божественной» и видел в ней истоки иронии романтической.
Ирония в романтизме, начиная с Гегеля, долго понималась как результат прямого воздействия фихтевской философии, как доведение до крайних пределов её субъективизма [2; 3]. Однако существуют и иные мнения (см., например: [4; 5; 8; 11]). Как убедительно показывает Э. Белер в упомянутом сочинении [11], Фридрих Шлегель, обращаясь в своих теоретических построениях иронии к фихтевско-му понятию трансцендентального, трактовал его довольно свободно. Важнейшим элементом этого понятия Шлегель считал диалектику, которая должна определять современную трансцендентальную эстетику. Исходные же положения философии Фихте в шлегелевской теории романтической иронии оказались значительно пересмотренными. Серьёзные и принципиальные отличия Ф. Шлегеля и романтиков от Фихте в трактовке иронии рассматривает А. Э. Соловьёв: «Если цель Фихте – под- чинить субъективности являющийся мир, свести его целиком к субстанциальному Я, то романтику с самого начала представляется абсурдным допущение реальности, лишённой собственного содержания» [8, с. 103].
Действительно, в субъективной парадоксальной форме ирония в романтизме выражала реальную подвижность и изменчивость бытия. Думается, что главный её источник можно видеть в самой живой жизни. Романическая ирония исходила из представления о бесконечном движении мира, из идеи его незавершённости, «открытости». И отсюда обосновывала право на возможность «несерьёзного» (иронического) отношения к нему. Она принципиально отвергала всё застывшее и неподвижное, категорические, окончательные выводы и истины. И утверждала свободу жизненных сил, не знающих преград в своём развитии. По словам Ф. Шлегеля, «ирония есть ясное осознание вечной изменчивости бесконечно полного хаоса» [9, с. 360]. Как пишет А. Э. Соловьев, «для зрелого романтизма сомнительна <…> чистая самостоятельная субъективность, возведённая Фихте в абсолют. <…> Если для романтизма в сознании и есть что-либо несомненное, так это <…> открытость, готовность встретить всегда отличный от него самозаконный и таинственный мир» [8, с. 103].
Романтики ценили в иронии освобождение от власти авторитетов, условностей и правил, и в связи с этим усматривали в ней возможность «высшего» созерцания жизни, открытия нового. Ф. Шлегель видел в остроумии «пророческую способность», в которой воплощается универсальность человеческого духа, его творческий характер, отражающий творческую суть природы.
В шлегелевской теории иронии особенно полно сказалась синтетичность романтичного миропонимания, диалектический характер мышления. С одной стороны, в ней действительно реализуется романтическая идея свободы и огромных полномочий человеческой личности. Однако эта свобода, вопреки распространенным мнениям, не абсолютна. Во-первых, свобода человека понимается Шлегелем опосредованно как его «способность по отношению к миру » [10, с. 187] (курсив мой. – И. К.). Причем здесь снова очень важным является представление о становящемся мире: «Только если мир мыслится становящимся , как приближающийся к своему завершению в восходящем развитии, возможна свобода . Если бы мир был завершён, то в нем ничего больше нельзя было бы изменить и создать, и свобода была бы невозможной» [Там же]. Во-вторых, «высшая форма» свободы – приближение мира к совершенству – доступна не отдельному человеку, но всему человечеству, взаимодействию индивидов. «Только человечеству в целом, а не отдельному человеку может быть приписана вполне позитивная свобода и способность воздействовать на мир, формировать и завершать его» [Там же, с. 188] – эта мысль особенно сильно звучит в более поздних сочинениях Шлегеля (начала 1800-х гг.).
И, наконец, в поэтической деятельности личности Фридрих Шлегель выделяет два основных фактора – энтузиазм и ограничивающий его скепсис (Э. Белер [11] видел в этой двуполярности самую суть романтической иронии). По Ф. Шлегелю, ирония в произведениях искусства «содержит и пробуждает чувство неразрешимого противоречия между безусловным и обусловленным, между невозможностью и необходимостью исчерпывающей полноты высказывания» [9, с. 287]. Уверенность автора в своей способности «сказать всё» Шлегель называет «ложной тенденцией юных гениев» или «предрассудком старых педантов». В творческом замысле подлинно художественного произведения всегда содержится нечто превышающее то, что можно непосредственно выразить, нечто бесконечное. Бесконечность замысла, интенций, смыслов, чувство вечного совершенствования, составляющие суть романтического энтузиазма, вдохновения и побуждающие к творчеству (свободному «излиянию» себя), оказываются в «неразрешимом противоречии» с необходимостью создания целостного и законченного произведения. И Ф. Шлегель выдвигает идею «самоограничения», которое «для художника, для человека» есть «альфа и омега, высшее и самое необходимое. Самое необходимое, ибо везде, где человек не ограничивает себя, там его ограничивает мир, превращая его в раба. Высшее – ибо можно себя ограничивать лишь в тех областях и с той стороны, где обладаешь бесконечной силой самосозидания и самоотрицания» [Там же, с. 282]; см. также: [6, с. 179–180]).
Таким образом, свидетельствуя о духовной мощи личности, самоограничение вместе с тем содержит признание неизбежного воздействия действительности. «Сознательное дерзновение» романтической иронии соотносится с «высшей подвижностью жизни», которая «должна воздействовать… не находя ничего вне себя, она (ирония. – И. К.) обращается вспять на любимый предмет, на себя самоё, собственное произведение, она ущемляет, чтобы возбуждать не разрушая» [9, с. 59]. «Безусловный произвол», который, начиная с Гегеля, часто видят в романтической иронии, Шлегелем отрицается: «То, что кажется безусловным произволом и тем самым неразумным» – должно быть «в основе своей всецело необходимым и разумным; иначе непринуждённость перейдет в своеволие… а самоограничение станет самоуничтожением» [Там же, с. 282]. Романтическая ирония принципиально амбивалентна, отрицая, она может утверждать, разрушая – созидать, и наоборот. Она поистине «ущемляет» (ограничивает, сдерживает) романтические порывы и экстазы, не уничтожая их [5]. Кроме того, Шлегель предостерегает от слишком жёсткого и поспешного самоограничения: в начале творческого процесса художник свободно отдается «самосозиданию, вымыслу и воодушевлению».
Как справедливо подчеркивает Ю.Н. Попов, понятие иронии получило у Ф. Шлегеля «необычайно многозначное толкование и развитие» [7, с. 15]. Концепция Шлегеля открывала различные аспекты иронии и отсюда разные подходы к ней. Во-первых, Шлегель стремился определить её «смысл», раскрыть её как важнейшую грань романтического миропонимания, обосновать право романтика на ироничное отношение ко всему существующему: «с внутренней (то есть содержательной. – И. К.) стороны – это настроение, оглядывающее всё с высоты и бесконечно возвышающееся над всем обусловленным, в том числе и над собственным искусством, добродетелью или гениальностью» [9, с. 283]. Другой аспект – это рассмотрение иронии как способа философского и художественного мышления, имеющего диалектический характер. «Понятие, доведённое до иронии» Шлегель характеризовал как «абсолютный синтез, постоянно воспроизводящую себя смену двух борющихся мыслей» [Там же, с. 296], то есть «абсолютный синтез» для Шлегеля не означал полной завершённости, но оказывался моментом в вечном процессе движения сознания, в вечном «разделении и смешении» противоречивых и противоборствующих начал. По верному наблюдению Ю. Н. Попова, «ирония у Ф. Шлегеля – это также свободное и радостное состояние духа, “эфир радости”, глубочайшая серьёзность, соединяющаяся с шуткой… это сочетание весёлой игры <…> и возвышенного умонастроения» [7, с. 16].
И, наконец, еще один аспект – «исполнение», способы художественного воплощения, ироническая поэтика: «ошеломительные контрасты», «форма парадоксов», «мимическая манера обыкновенного хорошего итальянского буффо» [9, с. 283].
Шлегелевское определение иронии как философско-эстетической позиции, бесконечно возвышающейся над «всем обусловленным», чаще всего весьма неадекватно воспринималось его современниками, в особенности Гегелем – в этом сходится большинство исследователей последнего времени. В гегелевской трактовке (оказывавшей большое влияние на критическую и эстетическую мысль XIX–XX вв.) романтической иронии приписывались полнейший произвол и разрушительные тенденции. Причины резко-негативного отношения к теории Ф. Шлегеля, разумеется, заключаются не в антипатии великого немецкого философа к романтизму. Гегель высоко оценивал средневековый романтизм, нашедший, по его мнению, глубокое выражение в церковных текстах, поэтизирующих героя, жертвующего собой ради спасения человечества. В дальнейшем, по Гегелю, романтическое искусство постепенно разрушается. Исчезает идея жертвенности, в романтическом сознании происходит безграничное самовозвышение личности, «рассчитывающей только на самоё себя», мир лишается своего субстанционального содержания, всё объективное признаётся ничтожным. Утверждение субъективизма Гегель усматривал прежде всего в романтической иронии.
При всей научной глубине рассмотрения романтического искусства в его ранних исторических формах, концепция романтизма конца ХVIII – начала ХIX века у Гегеля страдала метафизической односторонностью. Гегель недооценил, а точнее, оценил отрицательно критический характер новейшего романтизма, протест против всего косного, неподвижного. Здесь, по-видимому, сказалась политическая консервативность философа. Когда Гегель переходит к оценке общественных и литературных явлений своего времени, ему начинает изменять диалектическая точка зрения. В современной ему литературе он отрицает сатиру, подчеркивает разрушительную, злую роль смеха. С точки зрения «разумной действительности» Гегель не принимал «несерьёзного», иронического отношения романтиков ко всему окружающему, в том числе – общественным институтам: «праву, нравственности, истине». Между тем романтическая ирония не лишала реальность всякого субстанционального основания, она обосновывала необходимость воздержания от скоропалительных и окончательных выводов о характере этой субстанциональности [8, с. 103]. Ироническая позиция в эстетике Шлегеля необходима не для разрушения иллюзии ради её разрушения, а для приближения ограниченной творческой силы к бесконечности [11, с. 71].
Ирония в романтизме (особенно раннем, йенском) отразила уникально-сложное, диалектически-противоречивое умонастроение рубежа XVIII–XIX вв.: огромный духовный подъём, ощущение освобождения личности от феодальных пут и власти авторитетов, недоверие к могуществу просветительского Разума, его законодательным и миростроительным притязаниям. В романтической иронии воедино слились экстаз, энтузиазм, победоносно-дерзкое «великолепное лукавство» (Ф. Шлегель), стремление бесконечно духовно «разлиться» и постепенно нарастающее ощущение отрезвляющей власти реальности, своеобразная «оглядка» на неё. Внутри романтической иронии вырабатывались пути сложного, многоаспектного и гибкого художественного подхода к духовным и внешним жизненным явлениям, что сыграло важную роль в становлении последующего искусства.
Список литературы О романтической иронии в теоретических суждениях Ф. Шлегеля
- Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма (Ф. Шлегель, Новалис). М.: Наука, 1978. 288 с.
- Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. О миросозерцании Сёрена Киркегора. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. 248 с.
- Давыдов Ю. Н. Искусство и элита. М.: Искусство, 1966. 344 с.
- Карташова И. В. Повесть Гоголя «Нос» и романтическая ирония//От Карамзина до Чехова: сб. статей. Томск: Из-во Томского ун-та, 1992. С. 154-162.
- Карташова И. В. Об энтузиазме и его основах в представлениях европейских романтиков и Н. В. Гоголя//Наука о человеке: гуманитарные исследования. Научный журнал. 2015. № 4 (22). С. 25-39.
- Литературная теория немецкого романтизма. Документы. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. 329 с.
- Попов Ю. Н. Философско-эстетические воззрения Фридриха Шлегеля//Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 7-40.
- Соловьёв А. Э. Истоки и смысл романтической иронии//Вопросы философии. 1984. № 12. С. 97-105.
- Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. 479 с.
- Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1983. 448 с.
- Behler E. Klassische Ironie, romantische Ironie, tragische Ironie: Zum Wesprung dieser Begriffe. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972. 170 s.