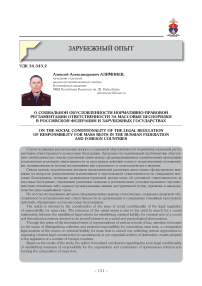О социальной обусловленности нормативно-правовой регламентации ответственности за массовые беспорядки в Российской Федерации и зарубежных государствах
Автор: Алимпиев А.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 4 (57), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению вопроса социальной обусловленности нормативно-правовой регламентации ответственности за массовые беспорядки. Актуальность поднимаемой проблематики обусловлена необходимостью поиска причинной связи между сформировавшимися юридическими критериями установления уголовной ответственности за преступные действия толпы и теоретическими положениями, посвященными ее (толпы) исследованию как социального и психологического явления. Сквозь призму теоретических взглядов представителей различных школ права сфокусировано внимание на вопросах разграничения коллективной и персональной ответственности за совершение массовых беспорядков, проведен сравнительно-правовой анализ норм об уголовной ответственности за массовые беспорядки, отразивший различные подходы в регламентации уголовно-правового противодействия стихийным либо заранее организованным акциям деструктивной толпы, принятые в законодательстве ряда зарубежных стран. По итогам исследования автором сформулированы выводы относительно социально-правовой обусловленности установления мер ответственности за организацию и совершение стихийных преступных действий, образующих состав массовых беспорядков.
Уголовное законодательство, массовые беспорядки, социальная обусловленность массовых беспорядков, нормативная регламентация ответственности за совершение массовых беспорядков, преступная толпа
Короткий адрес: https://sciup.org/140308224
IDR: 140308224 | УДК: 34.343.2
Текст научной статьи О социальной обусловленности нормативно-правовой регламентации ответственности за массовые беспорядки в Российской Федерации и зарубежных государствах
П од массовыми беспорядками в специальной социологической и юридической литературе принято понимать совокупность противоправных действий, направленных на нарушение общественного порядка, создающих угрозу общественной безопасности и внутренней стабильности государства.
Словосочетание, употребленное в названии статьи 212 УК РФ, отражает разнообразие форм насильственных действий и частоту их проявления в заданном временном и географическом пространстве.
Сам термин «массовые беспорядки» подразумевает коллективного субъекта преступления, которым является множество лиц, или так называемая «масса». Поскольку масса людей устремлена на учинение беспорядков, постольку под угрозой деструктивного воздействия находится определенный объект посягательства. В нашем случае таковым объектом естественно выступает установленный в государстве социальный порядок, традиционно обозначаемый в юридической науке такими понятиями, как «правопорядок» либо «общественный порядок».
В этой связи постижение социально-правовой природы массовых беспорядков видится нам сквозь призму иллюстрации сути социального хаоса как антипода общественного порядка и понятия, тождественного категории «беспорядок».
Российские авторы О.В. Кантицкий и А.М. Лафуткин, исследовавшие феномен массовых беспорядков в социально-психологическом срезе научного знания, отмечали, что социальный хаос выводит из устойчивого равновесного состояния сформировавшиеся в обществе общности и группы, увеличивая их степень свободы [3, с. 63].
Очевидно, что российским законодателем практика организации цветных революций и государственных переворотов не осталась вне учета и должного внимания, об этом свидетельствует эволюция нормы о массовых беспорядках, с течением времени сопровождавшаяся включением в статью 212 УК РФ дополнительных частей, касающихся организации, призывов и прохождения обучения для совершения анализируемого преступления.
Освещаемый в настоящей статье вопрос социальной обусловленности массовых беспорядков отсылает к необходимости поиска причинной связи между сформировавшимися юридическими критериями установления уголовной ответственности за преступные действия толпы и теоретическими положениями, посвященными ее (толпы) исследованию как социального и психологического явления.
Вопросов по поводу того, что преступление, совершенное толпой, должно наказываться как деяние «одного человека», в классической школе уголовного права никогда не возникало, так как в ней преступление является априори результатом проявления свободы воли индивида независимо от стороннего влияния либо внушения.
Представителями же позитивной школы, напротив, была воспринята идея о том, что «преступление, совершенное толпою, должно судиться отлично от того преступления, которое совершено одним лицом» [8, с. 20].
Подобное суждение получало поступательное развитие, с течением времени обретя форму доктрины уголовной ответственности за совершение коллективного преступления, сформулированное сторонником позитивной школы права Пюльезе в его известном труде «О коллективном преступлении». По его мне- нию, индивид, действовавший в массе бунтующего народа, представляет собой «каплю выступившего из берегов потока», вследствие чего превращается в бессознательное орудие толпы [цит. по: 8, с. 21].
Приведенная логика Пюльезе означает, что совершенное большим скоплением людей преступление заслуживает большей снисходительности, нежели изолированное преступное деяния индивида, на чем, собственно, строится предлагаемый им принцип коллективной полу-ответственности.
Соотнося рассуждения подобного рода с современной действительностью, можно признать в них лишь историческое значение для изучения эволюции уголовной ответственности за совершение массовых беспорядков.
Сформированный и укоренившийся в российской доктрине уголовного права принцип личной ответственности за содеянное снимает вопрос об актуальности рассмотрения проблемы ограничения ответственности индивида как потенциального субъекта массовых беспорядков.
Как правило, вне зависимости от географии массовых беспорядков, совершаются ли они в странах Западной Европы, Америки, Африки или Азии, закономерно, что сопровождаются они обычно поджогами, актами физического насилия, уничтожением и повреждением частного и муниципального имущества, применением огнестрельного оружия и веществ, представляющих опасность для окружающих.
Однако, как показал сравнительно-правовой анализ норм об уголовной ответственности за массовые беспорядки, в законодательстве зарубежных стран приняты различные подходы в регламентации уголовно-правового противодействия стихийным либо заранее организованным акциям деструктивной толпы.
Так, в странах, относящихся к англосаксонской правовой семье (США, Великобритания), факт совершения массовых беспорядков связывается с субъективной оценкой общественной опасности совершаемого деяния, даваемой потенциальными и реальными жертвами подобных преступлений.
В Великобритании согласно Акту об охране общественного порядка от 1 апреля 1986 года, массовые беспорядки считаются совершенными, если действия толпы, состоящей из 12 и более лиц, имели характер, способный вызвать реальное опасение у окружающих за сохранение жизни и личной безопасности1.
Порядок привлечения к ответственности за массовые беспорядки в США применяется в законодательстве каждого из штатов на основе Модельного уголовного кодекса 1962 года, который предусмотрел в отдельной главе, именуемой «Преступления против публичного порядка и благопристойности», статью 250 «Учинение беспорядков, поведение, нарушающее публичный порядок и родственные им посягательства».
По уголовному законодательству США действия участников массовых беспорядков должны «вызывать тревогу и общественную панику, блокировать дорожное и пешеходное движение, сопровождаться уничтожением предметов имеющих культурную ценность»2.
Редакция норм о массовых беспорядках практически всех без исключения стран постсоветского пространства вобрала в свое содержание основные признаки, фигурировавшие в статье 186 Модельного уголовного кодекса государств участников – государств Содружества Независимых Государств, принятого 17 февраля 1996 года. Исключение представляет Республика Украина, в уголовном законодательстве которой массовые беспорядки по виду конструкции состава преступления являются не формальным, как это принято практически во всех постсоветских государствах, а материальным составом преступления, о чем говорит указание в части 2 статьи 294 УК Украины на последствия в виде гибели людей либо иные тяжкие последствия, которые выступают условием привлечения виновных к 15 годам лишения
Вестник Сибирского юридического
свободы и относят преступление к категории особо тяжких1.
Схожие с деянием, именуемым в УК РФ массовыми беспорядками, преступления в УК зарубежных стран обозначаются различными наименованиями: «О публичных беспорядках» (УК Испании) «Массовые общественные беспорядки» (УК Китая), «Причастность к бунту» (УК Норвегии), «Беспорядки» (УК Японии), «Бесчинство» (УК Израиля).
Основным квалификационным признаком деяний, схожих с массовыми беспорядками, во всех без исключения нормах проанализированных стран, относящихся к романо-германской правовой семье, выступает насилие, совершаемое группой лиц, или так называемым «сборищем», «незаконным собранием».
Для подчеркивания признака массовости в зарубежном уголовном законодательстве прибегают к использованию таких категорий, как «незаконное сборище» (УК Голландии), «незаконное собрание» (УК Дании), «лица, собравшиеся в большом количестве» (УК Кореи). В некоторых нормах о массовых беспорядках к квалификационному признаку относят точно установленное число участников толпы для признания их субъектами массовых беспорядков. Такие условия фигурируют в УК Таиланда, Турции, указавших количество в 10 человек.
В УК проанализированных стран имеются нормы, стимулирующие отказ участников групповых нарушений от совершения преступления, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности лиц, добровольно покинувших сборище до совершения насильственных действий после призыва мирно разойтись (Дания, Франция, Швейцария).
Кроме этого при таком описании законодатели прибегают к указанию количества произнесенных требований разойтись, неисполнение которых выступает условием привлечения к уголовной ответственности участников толпы.
Уголовно-правовые нормы во Франции, призванные обеспечивать уголовно-право- вое противодействие массовым беспорядкам, наделены элементами инструктивности и алгоритмизации действий должностных лиц и государственных служащих по пресечению общественно опасных деяний со стороны участников преступного сборища. Согласно данным нормам, компетентным органам и должностным лицам корреспондирована обязанность сделать предупреждение участникам сборища до применения силы.
В отличие от сложившейся в российском законодательстве позиции, согласно которой наибольшую ответственность должен нести организатор, в уголовном законе отдельных стран европейского континента (Австрия, Дания) роли организатора, пособника и подстрекателя приравниваются, что говорит об отсутствии дифференциации ответственности за содеянное в зависимости от выполненной роли в соучастии.
В УК Голландии в качестве субъекта преступления, схожего с массовыми беспорядками, упоминаются военнослужащие.
Уголовное законодательство Польши отличается подходом в конструировании нормы о массовых беспорядках. Можно назвать отличающимся уникальностью в отличие от подхода большинства стран в части описания близких по значению к массовым беспорядкам деяний, положение параграфа 1 статьи 254 Уголовного кодекса Польши, в котором определяющим моментом уяснения сущности преступления является «осознание участником толпы совместности предпринимаемых усилий, направленных на насильственное посягательство в отношении имущества и физических лиц». Параграф 2 статьи 254 УК Польши сконструировал состав условно понимаемых нами массовых беспорядков как материальный, с включением последствий в виде смерти человека и причинением тяжкого вреда здоровью человека.
Прослеживается политическая подоплека при оценке совершаемых массовых беспорядков, отражающаяся в нормах уголовных кодексов Турции и КНР.
В Турции массовые беспорядки поставлены в ряд угроз проведения государственных и политических мероприятий.
В Китае политический оттенок наблюдается в применении санкций в виде лишения политических прав.
Наряду с рассмотрением аспекта нормативно-правовой регламентации ответственности за массовые беспорядки особого внимания заслуживает освещение социально-психологической природы толпы как неотъемлемого элемента изучаемого нами феномена.
Выявление закономерностей в механизме функционирования толпы, на наш взгляд, является основным инструментарием исследования социальной обусловленности уголовной ответственности за массовые беспорядки в законодательстве России и зарубежных стран. Кроме того, постижение природы феномена толпы, по нашему мнению, является одним из исходных начал в разработке стратегии уголовно-правового противодействия массовым беспорядкам, так как именно «толпа» является и решающим фактором, и неотъемлемым элементом условия их совершения.
В определении, данном российским социологом А.П. Назаретяном, толпа понимается как «скопление людей, не объединенных общностью целей и единой организационно-ролевой структурой, но связанных между собой общим центром внимания и эмоциональным состоянием» [5, с. 14]. Согласно приводимой им классификации толпа подразделяется на четыре вида:
окказиональная – вызванная каким-либо случаем, например дорожно-транспортным происшествием;
конвенциональная – собравшаяся на спортивном мероприятии, рок-концерте и т.д.;
экспрессивная – представленная митингом, шествием, пикетированием, демонстрацией, с выражением определенных требований;
действующая – превращающаяся в массу агрессивно настроенных людей.
Добавим, что указанные виды толпы обладают свойством взаимообусловленности и трансформации из одной ее разновидности в другую.
Известный российский социальный психолог Л.Г. Почебут механизм образования и функционирования толпы связывала с «волновым эффектом» распространения идеи, которая может объединить людей только при условии ее непротиворечивости интересам скопившихся масс [6, с. 19].
Г. Блумер в подобном ключе коллективное поведение толпы объяснял природой «круговой реакции», в рамках которой индивиды передают возбуждение, а вместе с ним и социальное беспокойство [цит. по: 7, с. 530].
Французский социолог Гюстав Лебон наделял толпу свойством «коллективной души», которая поглощает человеческую индивидуальность. «Сознательная личность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих целое, именуемое толпой, принимает одно и то же направление» [4, с. 160]. В описании свойства коллективной души Лебон был склонен в придании ей больше негативного оттенка, выдвинув тезис, что в толпе может происходить накопление только глупости, а не ума [4, с. 164].
Воззрения не менее известного социолога С.И. Сигеле относительно механизмов функционирования толпы нам показались более аргументированными и в большей мере соответствующими как массовой, так и индивидуальной психологии. С.И. Сигеле считал, что никакое внушение, в том числе и гипнотическое, не способно в полной мере подавить человеческую индивидуальность. В обоснование этого положения С.И. Сигеле приводит основанный на наблюдениях и экспериментальных данных тезис: «Если при гипнотическом внушении, самом сильном и могущественном из всех внушений, нельзя достичь полного уничтожения человеческой индивидуальности, а только одного лишь ее ослабления, то на гораздо большем основании мы можем сказать, что эта индивидуальность сохранится в состоянии бодрствования, даже если бы внушение достигло самой высшей степени, как, например, среди толпы» [8, с. 89].
С выдвинутым тезисом отчасти был не согласен выдающийся психолог и социолог Габриэль Тард: «Не могу присоединиться к мнению Сигеле, что если даже и гипнотическим внушением нельзя превратить честного человека в убийцу, то тем труднее это сделать с помощью внушения в бодрственном состоянии, с которым мы обыкновенно встречаемся в народных волнениях». Частично разделяя точку зрения Лебона о том, что индивидуальное сознание личности поглощается коллективным чувством, Г. Тард первопричину этого явления видел не во внушении, а в иррациональном чувстве страха участников толпы перед кем-то или перед чем-либо. Это явление им описывается следующим образом: «Факты доказывают, что деморализующее действие мятежа или даже тайного заговора далеко превышает влияние какого-либо гипнотизера, и в этих случаях внушение играет значительно меньшую роль, чем принуждение, страх и нравственная трусость» [9, с. 425].
Дореволюционным российским автором Д.Д. Безсоновым на примере холерных беспорядков 1891 года со слов занимавшего должность прокурора и общественного деятеля П.Н. Обнинского была ярко проиллюстрирована следующая ситуация, в которой толпа под воздействием страха, избирает объект нападения, являвшегося по общему мнению источником опасности: «Целые массы людей, в зверском остервенении, очевидно, обезумевшие от ужаса перед какою-то фантастическою, грозящей им гибелью и даже не подозревающие об опасности действительной, жгут, истребляют и разносят то, что заботливою рукою было устроено и уготовано для спасения их от страшной болезни: убивают врачей и фельдшеров, прибывших лечить их, бьют полицейских, им помогающих, ревут, сокрушают и неистовствуют в домах, на улицах, площадях, в больницах и бараках» [1, с. 204-209].
Либеральный оттенок носило мнение прокурора П.Н. Обнинского о сообразности мер уголовного наказания к участникам беспорядков, согласно которому «одна уголовная репрессия в данном случае и нецелесообразна, и неравномерна. И наказанные, и безнаказанные увидят в наказании не должное за свою вину возмездие, а личную месть тех, «кто пускает холерную шмару в народ»» [1, с. 212-213].
Из общего количества изученных современных российских работ, посвященных рассмотрению психологии толпы как инструмента совершения массовых беспорядков, заслуживающим внимание мы посчитали описанный А.В. Забариным сценарий поведения толпы в кризисной ситуации: «Толпа сплачивается на фоне кризисной ситуации перед лицом общего врага – виновника кризиса… Как следствие, в толпе может возникнуть группа людей, охваченных недовольством, гневом, злобой, яростью, исступлением. Часть из них, доведенная до аффективного состояния, способна стать инициаторами стихийных погромов, уничтожения, разрушения, насилия, убийств. Образ врага в условиях фрустрации базовых потребностей формирует враждебность и поддерживает решимость участников такой толпы совершать агрессивные действия» [2, с. 128].
Наше понимание кризисной ситуации, приводящей к массовым беспорядкам, не ограничивается экономической составляющей. Она может иметь место в системе взаимоотношений между администрацией исправительного учреждения и группой отрицательно настроенных осужденных, в сферах межнационального общения, бизнеса и т.д.
В целом по итогам рассмотрения аспекта социальной обусловленности уголовной ответственности за массовые беспорядки считаем необходимым сделать следующие обобщающие выводы.
Установление уголовной ответственности за совершение массовых беспорядков обусловлено существованием социальных противоречий, приводящих к массовому деструктивному поведению, создающему угрозу общественной безопасности и внутренней стабильности государства.
В законодательстве зарубежных стран приняты различные подходы в регламентации уголовно-правового противодействия стихийным либо заранее организованным акциям деструктивной толпы.
Социально-психологическая природа феномена «толпы», исследованная в трудах видных социологов и психологов, отражает закономерности своего функционирования в массовом преступном поведении, имеет прямое отношение к механизму возникновения массовых беспорядков.
Приведенные положения классиков социологии, исследовавших массовое поведение и толпу как социально-психологические феномены, заслуживают особого внимания и учета в законотворческом процессе при конструировании уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за совершение массовых беспорядков.
Относительно области регулирования сценариев поведения толпы в различных ее проявлениях нормы уголовного закона выполняют функции:
– принуждения к соблюдению участниками толпы юридических и социальных норм;
– установления границ между допустимыми и недопустимыми способами удовлетворения участниками толпы социальных и биологических потребностей;
– нормативного воздействия на лидеров социальных групп и общностей;
– противодействия попыткам проявления агрессии толпы в отношении определенных общностей и социальных групп;
– запрета насильственной формы выражения социального протеста;
– наказания и привлечения к ответственности за проявленную насильственную форму выражения социального протеста;
– предупреждения массовых беспорядков.
Список литературы О социальной обусловленности нормативно-правовой регламентации ответственности за массовые беспорядки в Российской Федерации и зарубежных государствах
- Безсонов, Д.Д. Массовые преступления в общем и военно-уголовном прав / Д.Д, Безсонов. - СПб.: Типография Пентковского, 1907. - 495 с.
- Забарин, А.В. Психология толпы и массовых беспорядков / А.В. Забарин. - М.: Юрайт, 2018. - 211 с. EDN: UMNEWN
- Кантицкий, О.В. Психология толпы и массовых беспорядков / О.В. Кантицкий, А.М. Лафуткин. - Рязань.: Академия ФСИН России, 2013. - 182 с.
- Лебон, Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. - М.: Издательство АСТ (Философия-Neoclassic), 2017. - 320 с.
- Назаретян, А.П. Психология массового поведения / А.П. Назаретян. - М.: ПЕР СЭ, 2001. - 188 с.
- Почебут, Л.Г. Социальная психология / Л.Г. Почебут. - М.: Издательство "Юрайт", 2018. - 153 с.
- Райгородский, Д.Я. Психология масс / Д.Я. Райгородский. - Самара.: Издательский дом "Бахрах-М", 2010. - 592 с. EDN: QXZRDF
- Сигеле, С.И. Преступная толпа / С.И. Сигеле. - М.: Книга по требованию, 2013. - 106 с.
- Тард, Г. Преступник и толпа / Г. Тард. - М.: Алгоритм, 2016. - 432 с.