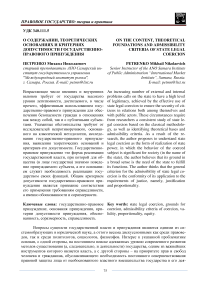О содержании, теоретических основаниях и критериях допустимости государственно-правового принуждения
Автор: Петренко Михаил Николаевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (51), 2018 года.
Бесплатный доступ
Возрастающее число внешних и внутренних вызовов требует от государства высокого уровня легитимности, достигаемого, в числе прочего, эффективным использованием государственно-правового принуждения для обеспечения безопасности граждан в отношениях как между собой, так и с публичными субъектами. Указанные обстоятельства требуют от исследователей непротиворечивого, основанного на классической методологии, исследования государственно-правового принуждения, выявления теоретических оснований и критериев его допустимости. Государственно-правовое принуждение это форма реализации государственной власти, при которой для общества (в лице государства) значимо поведение принуждаемого субъекта, а его основанием служит необходимость реализации государством своих функций. Общим критерием допустимости государственно-правового принуждения является признание соответствия его применения требованиям справедливости, а именно обоснованности и соразмерности.
Государственно-правовое принуждение, основания принуждения, критерии допустимости принуждения, обоснованность, соразмерность, справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/142232805
IDR: 142232805 | УДК: 340.111.5
Текст научной статьи О содержании, теоретических основаниях и критериях допустимости государственно-правового принуждения
Вопросы сущности государственной власти и принуждения являются одними из системообразующих в юридической науке, а оттого весьма дискуссионными как среди правоведов, так и среди политологов, социологов, философов. Интерес к указанной проблематике основан, с одной стороны, на постоянном поиске адекватных уровню современного развития методов существования (а, следовательно, и деятельности) государства, одним из важнейших инструментов которого является власть, а с другой стороны – на приоритете прав и свобод человека и гражданина, обуславливающего необходимость постоянного совершенствования правовой защиты лица от необоснованного властного вмешательства государства в его дея-
тельность. Отношения государственной власти и государственно-правового принуждения, а именно в таком ключе они рассматривается нами, характеризуются, в первую очередь, своим субъектным составом, а именно выступлением на одной стороне властвующего государства, а на другой – конкретного подвластного лица или лиц. И последнее обуславливается признаваемым большинством исследователей основанном на воле участников социальном характере властных отношений [7, c. 120], что по нашему мнению справедливо, то первое, а именно властвующий субъект, требует пояснений.
Государство является правовым фантомом и не только не отвечает вышеозначенному критерию социального характера участников отношений, но и фактически является ничем иным, как механизмом, с помощь которого возможна консолидация значительных сил и средств общества для решения каких-либо целей и задач, которые быть решены иным образом не могут (в ином случае, полагаем, теряется сам смысл существования государства в современном его понимании). При этом государство в период своего существования всегда, в большей или меньшей степени, легитимируется обществом [3, c. 309], и потому обязано отвечать представлениям легитимировавшего его общества о своей роли и обязанностях под угрозой собственной делигитимации. Таким образом, поскольку государство в известном смысле зависимо от общества верным полагаем относить к субъекту принуждения в отношениях государственной власти именно легитимировавшее государство общество, которое действует в лице уполномоченного им государства (его единоличных органов и должностных лиц). Государство же выступает на стороне властвующего субъекта, но не является им.
Следующим сущностным признаком власти, в том числе государственной, является конфликт. Отсутствие конфликта между властвующим и подвластным (иными словами тождество их воль в отношениях), полагаем, исключает властность в их отношениях: так, если лицо самостоятельно по просьбе или предложению другого лица, совершает какие-либо действия в интересах просящего (предлагающего), то считать указанные отношения властными не представляется возможным. Обратный подход распространил бы понятие "власти" на практически все существующие в обществе отношения, что не соответствует не только обыденному пониманию властных отношений, как праву и возможности распоряжаться кем-либо, подчинять своей воле [5, c. 86], но и с очевидностью излишне расширяет содержание понятия. Конфликт, вместе с тем, является следствием противостояния воли властвующего и подвластного, каждая из которых направлена на достижение целей, являющихся взаимоисключающими [4, c. 169]. Подавление властвующим воли подвластного, то есть такое воздействие на него, при котором последний сохраняет свою волю, однако лишен возможности её реализовать в период осуществления на него воздействия, полагаем, характеризует механизм отношений государственной власти между властвующим и подвластным. Причем важным является обстоятельство сохранения у подвластного собственной воли, поскольку отсутствие последней свидетельствует об отсутствии конфликта, а, следовательно, и властных отношений.
Указанные обстоятельства, а также наличие у государства преобладающего ресурса, за счет которого он обеспечивает подавление воли подвластного лица или лиц (и без которого ассиметричные отношения власти не могут существовать), позволяет относить к государственной власти направленное на достижение имеющихся целей (задач) основанное на праве общественное отношение, состоящее в подавлении обществом посредствам легитимированного им государства (его органов и должностных лиц) нетождественной воли подвластного лица или лиц за счет имеющегося у него преобладания в ресурсах. Государственное принуждение, как одна из форм реализации государственной власти (наряду с властью в форме силы), воспринимает все признаки родовой для себя категории государственной власти, дополняясь таким признаком, как значимость для принуждающего субъекта – общества в лице государства (в лице его должностных лиц и органов) поведения принуждаемого лица или лиц [6, c. 79-81].
Продолжая отметим, что априорная асимметричность государственно-властных отношений, в том числе отношений государственно-правового принуждения, выводит роль права в них на первостепенные позиции: опосредованность неразрывной с обществом, и оттого неразрывной и с правом, государственной деятельности требует от государства (а, следовательно, и от его должностных лиц и органов) соблюдения правовых норм под угрозой делегитимации, а, следовательно, и использования в процессе осуществления своей власти только тех ресурсов, которыми его должностные лица и органы наделены легально. Последнее определяет необходимость наличия у участников отношений прав и обязанностей, то есть правового положения.
Указанная ранее асимметричность отношений требует закрепления за принуждающим лицом – государством (в лице его органов и должностных лиц) правообязанности подвергнуть принуждению лицо и применить к нему меры принуждения в правовом порядке. Принуждаемый же (а равно каждый из них в равной мере при множественности лиц на стороне принуждаемого лица), вправе требовать соблюдения в отношении него правовой процедуры и реализации мер принуждения в режиме законности, но обязан получить полагающуюся ему меру принуждения и претерпеть её. Вместе с тем, правовая опосредованность государственно-правового принуждения несводима лишь к его легальности. Наиболее соответствующей пониманию демократии в современном обществе, не замыкающимся на легитимизации суверенитета, является правовое государство, в котором право не сводится к комплексу норм законодательства [8, c. 21-23], действующего в конкретное время и обеспечиваемого государственным принуждением. Последнее включает в себя правосознание, правовую практику и ряд иных элементов [1, c. 357], направленных, в конечном итоге, на осуществление справедливой, и оттого поддерживаемый легитимировавшим государство обществом, социальной политики, эффективных методов управления.
Таким образом, государственно-правовое принуждение, как форма реализации государственной власти, является ассиметричным и в силу своей социальной природы - правовым отношением, обуславливающим наличие у своих участников (принуждающего и принуждаемого лица) как прав, так и обязанностей. При этом лишь нормативной регламентации государственно-правового принуждения, в том числе правового положения его участников, для признания его легитимным недостаточно. Для этого требуется соответствие государственноправового принуждения всему комплексу элементов права, включая правовую практику и "отраженность" в правосознании как самих участников отношений, так и всего общества. Особый интерес при исследовании государственно-правового принуждения представляет вопрос определения теоретических оснований принуждения и критериев его допустимости, на чем остановимся подробнее.
Вопросы оснований применения принуждения наиболее развернуто отечественными учеными в последние несколько лет исследовались с позиций уголовно-процессуальной науки [2, с. 59], справедливо выделяя в качестве таковых совокупность материально- и процессуально-правовых требований законодательства, закрепляющих условия и порядок применения принуждения (нормативные условия). Вместе с тем факт наличия правовой регламентации сам по себе не является основанием применения принуждения. Для возникновения отношений требуется юридический факт – совершение лицом (в последующем – принуждаемым), действий, тожественных основаниям применения мер принуждения, установленных материальными нормами (фактические условия). Совокупность нормативных и фактических условий является основаниями применения к лицу мер государственно-правового принуждения в узком смысле. В широком же смысле, полагаем, основаниями применения принуждения является необходимость реализации государством своих функций (внутренних и внешних). Указанное объясняется тем, что деятельность государства в любой момент может повлечь конфликтную ситуацию между ним и лицом (лицами). Последнее, в целях выполнения публичным образованием возложенных на него обществом обязанностей, потребует приме-

нения государственной власти, а в первую очередь наименее жесткой её формы – государственно-правового принуждения.
Следующим важным, но ранее специально не исследованным в литературе вопросом являются критерии допустимости принуждения, которые, по нашему мнению, следует искать в категории справедливости. Широта и полисемантичность последней, выступающей в качестве общего критерия допустимости, определяет необходимость выделения в её структуре обладающих большей конкретикой элементов. Указанными элементами является обоснованность (основанность принуждения на праве) и соразмерность (соотнесенность принуждения с индивидуализирующими обстоятельствами, позволяющими воздействовать на принуждаемого с учетом присущей каждому конкретному случаю специфики). Соблюдение указанных критериев при применении мер государственного принуждения обеспечит их правовой характер и допустимость. Допустимость государственно-правового принуждения, в свою очередь, может определяться формально и материально. Формальное определение допустимости принуждения совпадает с определением оснований применения принуждения в узком смысле и предполагает исполнение закрепленных в законодательстве материальных и процессуальных правовых норм. Материальное же определение допустимости принуждения основывается на широком понимании права, что позволяет считать, что соответствие мер принуждения и их применения общественным идеалам оценивается обществом также и путем оперативного изъявления своего отношения к принуждению. Изъявление воли может происходить в форме массовых мероприятий (пикетирований, шествий, митингов за или против применения принуждения в конкретном случае) и частных инициатив (индивидуальных и коллективных прошений, открытых писем и т.д.). Формальное и в материальное понимание допустимости не являются антагонистами и дополняют друг друга: формальное определение допустимости принуждения предполагает соответствие последнего законодательству, которое основывается на праве и должно ему соответствовать. Последнее не всегда достигается в полной мере.
Так, по результатам проведенного анкетирования 200 человек подтверждено соответствие отличающихся наибольшей жесткостью мер принуждения, из числа закрепленных в административном и уголовно-процессуальном законодательстве, критериям допустимости государственно-правового принуждения. В уголовном праве меры принуждения, применяемые в связи с нарушением права на жизнь, напротив, показали низкий уровень обоснованности. Так принуждение, предусмотренное п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ признали необоснованным 52% опрошенных, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ – 54,5%, п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ – 52,5%, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ – 57%, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ – 52,5%, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ – 59%, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ – 52,5%, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ – 61%, ч. 2 ст. 109 УК РФ – 55%).
Причиной ненадлежащей обоснованности является непринятие законодателем во внимание комплексности принуждения и не проведение предварительного анализа интенсивности воздействия государственной власти на общественные отношения в указанной сфере, что повлекло нарушение внутренних взаимосвязей отраслей права на микро и макроуровне. Последнее, полагаем, требует отдельного отраслевого исследования и решения вопроса о последующей корректировке нормативной базы.
Список литературы О содержании, теоретических основаниях и критериях допустимости государственно-правового принуждения
- Буранова В.О., Сафронов В.В. Правосознание гражданина как один из видов правосознания / Научный альманах. 2016. № 5-1 (19). C. 356-358.
- EDN: WDFOVT
- Вершинина, С. И. К вопросу о юридической классификации фактических оснований применения мер государственного принуждения // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. № 2 (2). C. 57-59.
- EDN: OFSJRV
- Кант И. Метафизика нравов. Ч. 1: Сочинения на немецком и русском языках / под ред. Б. Тушлинга, Н. Мотрошиловой. М.: Канон; РООИ «Реабилитация», 2014.
- Краткий психологический словарь / ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд., расш., испр. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 1999.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997.
- EDN: RXPFZJ
- Петренко М.Н. О понимании в науке государственного принуждения как формы реализации государственной власти / Правовое государство: теория и практика. 2016. № 4 (46). C. 77-82.
- EDN: XEOTGX
- Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. СПб.: Питер, 2003.
- EDN: LBQEST
- Финогентова О.Е. Соотношение права и закона в свете проблемы правового государства / Правовое государство: теория и практика. 2017. № 2 (48). C. 20-25.
- EDN: YSUBQF