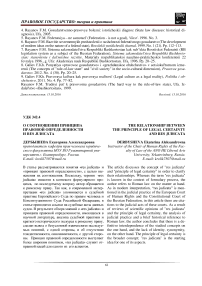О соотношении принципа правовой определенности и res judicata
Автор: Дербышева Екатерина Александровна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 4 (46), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются понятия «res judicata» и «принцип правовой определенности», с целью выяснения их соотношения. Поскольку, термин «res judicata» известен в контексте формулярного процесса, по исследуемому вопросу автор обращается к римскому праву. Так как, в современной интерпретации «res judicata» упоминается в судебной практике Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации, в статье приводятся ссылки на судебные акты данных судов. В результате обзора мнений о «res judicata» и принципа правовой определенности, имеющихся в научной литературе, анализа судебной практики и краткого исторического экскурса к римскому праву, сделан вывод о безусловной взаимосвязи исследуемых понятий, с одной стороны, и об отсутствии тождественности, синонимичности, с другой стороны. Принцип правовой определенности выступает более широким понятием, «res judicata» служит отправной идеей для одного из его аспектов.
Принцип правовой определенности, законная сила судебного решения, формулярный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/142233847
IDR: 142233847 | УДК: 342.4
Текст научной статьи О соотношении принципа правовой определенности и res judicata
Принцип правовой определенности появился в российской правовой системе относительно недавно и пока не имеет нормативного закрепления в российском законодательстве, однако его содержание можно выявить обратившись к правоприменительной практике Конституционного Суда Российской Федерации (далее по тексту Конституционный Суд РФ) и Европейского Суда по правам человека (далее по тексту ЕСПЧ), которые ссылаются на указанный принцип при обосновании ряда принимаемых ими решений.
Принцип правовой определенности предполагает, с одной стороны, ясность, четкость и недвусмысленность правовых предписаний, с другой стороны, устойчивость (окончательность) судебных актов, гарантируя в совокупности предсказуемость правового регулирования и стабильность правового статуса всем участникам правоотношений.
Говоря об уважении к неизменности и окончательности вступивших в законную силу судебных решений как к одной из сторон принципа правовой определенности, и Конституционный Суд РФ, и ЕСПЧ ссылаются также на понятие «res judicata». В связи с чем возникает вопрос, как связаны между собой данные понятия, можно ли считать их тождественными или нельзя. Этот вопрос представляется важным, поскольку позволяет конкретизировать как содержание принципа правовой определенности, так и границы правила «res judicata».
В научной литературе встречаются различные мнения о соотношении «res judicata» и принципа правовой определенности, которые условно можно разделить на две группы. К первой группе относятся авторы, которые используют указанные термины как тождественные [2, с. 40; 3, с. 40; 4, с. 6; 6, с. 66; 18, с. 16]. При этом большинство авторов уделяют основное внимание содержательному аспекту «res judicata», не обосновывая при этом, почему принцип правовой определенности понимается именно как «res judicata», и почему не имеет самостоятельного содержания. Вместе с тем, Т.М. Алексеева, основываясь на толковании судебных актов ЕСПЧ, особо подчеркивает, что «правовая определенность означает именно принцип правовой определенности судебных решений – принцип res judicata» [2, с. 52]. Другая группа авторов считают, что «res judicata» и принцип правовой определенности хотя и связанные между собой, но не тождественные понятия. Данная точка зрения представляется более верной.
По мнению Т.М. Цепковой и М.С. Борисова, «res judicata» необходимо понимать и использовать в двух смыслах. В узком смысле «res judicata» означает «дело, решенное судом», то есть имеется вступивший в силу итоговый судебный акт, разрешивший дело по существу, которым устранена спорность или иная неопределенность правоотношения. В широком смысле «res judicata» – это производный от принципа правовой определенности судопроизводственный принцип, устанавливающий, что окончание судебного спора вынесением решения и вступлением последнего в законную силу влечет как минимум следующие последствия: повторное рассмотрение тождественного спора не допускается (исключительность); дальнейшее обжалование решения в ординарном порядке запрещается, а пересмотр допустим при наличии строго определенных оснований (неопровержимость); решение суда должно быть исполнено (исполнимость) [23, с. 52–55].
П.С. Барышников рассматривает «res judicata» в качестве правила, которое содержит принцип правовой определенности в том числе [5, с. 61].
Г.А. Вишневский приходит к выводу о том, что «res judicata» принцип, предполагающий запрет на пересмотр судебного акта, вступившего в законную силу по ординарным основаниям [8, с. 77].
Д.А. Степаненко и Л.И. Лавдаренко рассматривают «res judicata» в качестве одного из аспектов идеи правовой определенности, предполагающей наличие других составляющих [19, с. 27]. Аналогичного мнения придерживается и А.Р. Султанов, основательно занимаю- щийся проблемами принципа правовой определенности, который подчеркивает, что «res judicata лишь одна из граней принципа правовой определенности» [20, с. 223].
В ходе анализа соотношения понятий «принцип правовой определенности» и «res judicata», Н.Н. Ковтун и Д.М. Шунаев приходят к выводу о том, что это содержательно не идентичные понятия. «Res judicata» выступает требованием правовой определенности окончательных судебных решений, любое нарушение «res judicata» является нарушением принципа правовой определенности, так как влечет неопределенность правового статуса субъектов, являющихся сторонами в деле, по которому вынесено окончательное судебное решение. Помимо «res judicata», принцип правовой определенности включает в себя и иные аспекты, такие как формальная определенность закона, установление четких оснований ограничения прав человека [12, с. 38 и др.].
Н.Н. Ковтун отмечает, что суть и содержание принципа правовой определенности нередко отождествляется с содержанием таких правовых явлений, как принципы правовой стабильности, неопровержимости окончательных актов суда, общеобязательности постановленных судебных решений, фундаментальной идеи «res judicata» и конституционного правила «non bis in idem». В итоге правовая определенность как бы теряет свое самостоятельное содержание [13, с. 32].
-
В.В. Терехов также относится к авторам не считающим, что res judicata и принцип правовой определенности тождественные понятия. Он отмечает, что res judicata правильнее было бы характеризовать как инструмент достижения такой цели, декларируемой принципом правовой определенности, как стабильность вынесенных решений [21, с. 208.].
И.Н. Лукьянова указывает, что принцип правовой определенности проявляется в концепции «res judicata», одним из важнейших элементов которого является постулат «interest republicae ut sit finis litium» («публичный интерес состоит в том, чтобы тяжба была завершена»), т.е. требования окончательности судебного решения [14, с. 5].
-
С. Н. Хорунжий связывает «res judicata» с таким свойством судебного решения как неопровержимость и предлагает перевод «право обретенное в суде» [22, с. 59].
Термин «res judicata» известен из римского права и связан с формулярным процессом, возникновение которого было связано с тем, что легисакционные иски могли использоваться только римскими гражданами, жившими в Риме или Италии. Но Рим к тому времени уже превратился в один из центров торговой и культурной жизни Средиземноморского региона. Поэтому сделки с участием иностранцев все множились и порождали тяжбы между римскими гражданами и иностранцами или между самими иностранцами, которые не могли быть разрешены в рамках процесса по legis actiones. Закон Эбуция в 130 г. до н.э. вводит формулярный процесс [10, с. 180-183]. Считалось, что судебное решение, вынесенное в рамках формулярного процесса, устанавливает истину для спорящих сторон, поскольку они добровольно подчинялись решению судьи. Этот принцип выразился в правиле res iudicata pro ver-itate habetur (выделено мной – Е.Д.), что в переводе означает: судебное решение должно принимать за истину [10, с. 202]. Гарсиа Гарридо отмечает, что предмет судебного разбирательства становится «вещью, относительно которой вынесено судебное решение» (res i udicata). В формулярном процессе судебные решения и не подлежали обжалованию, и не могли стать предметом рассмотрения у судьи более высокого ранга [10, с. 202]. Вот как описывает сущность судебного решения, вынесенного в рамках формулярного процесса Д.В. Дождев: «Решение судьи (sententia, суждение) – это постановление частного лица, которое получало обязательную силу на основании соглашения сторон и iussum iudicandi магистрата. С вынесением sententia (осуждения или оправдания ответчика) предмет разбирательства считался решенным res iudicata: делом, по которому вынесено судебное решение, называется то, в котором высказывание судьи положило конец спору: что достигается посредством или присуждения, или оправдания» [11, с. 237.].

Таким образом, итогом формулярного процесса становится судебное решение, которое является окончательным и впоследствии не может быть обжаловано сторонами у вышестоящего судьи. Стороны в формулярном процессе, получая судебное решение, согласны с его окончательностью и разрешением своего спора по существу. Дословный перевод «res judicata» с латинского языка означает «разрешенное дело» или «дело, по которому вынесено решение».
Современная трактовка «res judicata» появляется в правоприменительной практике ЕСПЧ во взаимосвязи с принципом правовой определенности, одним из аспектов которого выступает неизменность вступивших в законную силу судебных решений.
Говоря о неизменности судебного решения, ЕСПЧ выступает с критикой отмены судебных решений, вступивших в законную силу, в порядке надзора, поскольку, это подрывает уверенность участников правоотношений в определенности их правового статуса. Наиболее известными и цитируемыми, в этом аспекте, делами являются «Брумареску против Румынии» [7], «Рябых против Российской Федерации» [17], «Волкова против Российской Федерации» [9]. В постановлении по делу «Брумареску против Румынии», ЕСПЧ указал, что «одним из основных аспектов верховенства права является принцип правовой определенности. ЕСПЧ отмечает, что Верховный суд Румынии нарушил принцип правовой определенности, поскольку, отменил судебное решение, которое «не подлежало отмене» и res judicata, которое, более того, было исполнено. Дополнительно высказавшие судьи Н. Братц и Б. Цупанчич отметили, что принцип правовой определенности является принципом фундаментальной важности, в настоящем деле нарушение принципа состоит в наделении полномочием отменять без ограничения во времени окончательное, обязательное и исполненное решение суда, что влечет нарушение «права на суд», гарантированного Статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод».
Аргументируя свою позицию в постановлении по делу «Рябых против России», ЕСПЧ указал, что правовая определенность предполагает уважение принципа res judicata , то есть принципа недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела (выделено мной – Е.Д.). Принцип закрепляет, что ни одна из сторон не может требовать пересмотра окончательного и вступившего в законную силу постановления только в целях проведения повторного слушания и получения нового постановления. Полномочие вышестоящего суда по пересмотру дела должно осуществляться в целях исправления судебных ошибок, неправильного отправления правосудия, а не пересмотра по существу. Пересмотр не может считаться скрытой формой обжалования, в то время как лишь возможное наличие двух точек зрения по одному вопросу не может являться основанием для пересмотра. Отступления от этого принципа оправданы только тогда, когда являются обязательными в силу обстоятельств существенного и непреодолимого характера.
ЕСПЧ неоднократно подчеркивает, что одним из основополагающих аспектов господства права является принцип правовой определенности, который, среди прочего (выделено мной – Е.Д.), требует, чтобы принятое судами окончательное решение не могло бы быть оспорено [1]. Формулировка «среди прочего» ясно говорит о том, что недопустимость обжалования окончательных (вступивших в законную силу) судебных решений – не единственное значение принципа правовой определенности. В подтверждение данного вывода можно сослаться на постановление ЕСПЧ по делу «Ракевич против России», в котором говорится, что согласно принципу правовой определенности закон должен быть достаточно точным, чтобы позволить лицу соответствующим образом вести себя [16].
Следовательно, принцип правовой определенности и res judicata не могут выступать тождественными понятиями, поскольку, принцип правовой определенности не сводится только к недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела, а имеет другие проявления.
В Постановлениях Конституционного Суда РФ также содержатся ссылки на «res judicata» и принцип правовой определенности. Анализ данных постановлений позволяет сде- лать вывод о том, что Конституционный Суд РФ ссылается на прецедентную практику ЕСПЧ и также не считает данные понятия тождественными. Так, например, в Постановлении от 19.03.2010 N 7-П, Конституционный Суд РФ отметил, что «необходимость соблюдения принципа правовой определенности подчеркивает и ЕСПЧ при применении содержащихся или вытекающих из Конвенции о защите прав человека и основных свобод общих принципов, лежащих, в том числе, в основе оценки соответствия ее положениям внутригосударственного права. Согласно позициям ЕСПЧ закон, во всяком случае, должен отвечать установленному Конвенцией стандарту, требующему, чтобы законодательные нормы были сформулированы с достаточной четкостью и позволяли лицу предвидеть, прибегая в случае необходимости к юридической помощи, с какими последствиями могут быть связаны те или иные его действия. Институциональные и процедурные условия пересмотра ошибочных судебных актов, во всяком случае, должны отвечать требованиям процессуальной эффективности, экономии в использовании средств судебной защиты, прозрачности осуществления правосудия, исключать возможность затягивания или необоснованного возобновления судебного разбирательства и тем самым обеспечивать справедливость судебного решения и вместе с тем - правовую определенность, включая признание законной силы судебных решений, их неопровержимости (res judicata), без чего недостижим баланс публично-правовых и частноправовых интересов» [15]. Таким образом, принцип правовой определенности включает в себя правило «res judicata», являясь, следовательно, более широким понятием, подразумевая, кроме того, как минимум четкость и однозначность правовых норм.
С учетом изложенных мнений, краткого исторического экскурса и анализа судебной практики, можно сделать ряд выводов. Во-первых, принцип правовой определенности и «res judicata» – не тождественные понятия. Во-вторых, принцип правовой определенности понятие более широкое по своему содержанию и смыслу, что подтверждается, в частности, приведенными примерами из судебной практики. В-третьих, «res judicata» является судопроизводственным принципом, то есть отраслевым (межотраслевым), в то время как принцип правовой определенности, являясь одним из аспектов принципа верховенства права имеет общеправовой, универсальный характер; В-четвертых, «res judicata» послужило своеобразной идеей для одного из аспектов принципа правовой определенности – процессуального, заключающегося в требовании стабильности вступивших в законную силу судебных решений; В-пятых, нарушение «res judicata» влечет нарушение принципа правовой определенности, так как вносит неопределенность в правовой статус субъектов, являющихся сторонами в судебном споре. В то же время нарушение принципа правовой определенности не обязательно вызывает нарушение «res judicata», поскольку в содержание данного принципа входят и иные аспекты.
Список литературы О соотношении принципа правовой определенности и res judicata
- Акалинский против России : постановление Европейского Суда по правам человека от 07.06.2007 по жалобе № 2993/03. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».
- Алексеева Т.М. Правовая определенность судебных решений в уголовном судопроизводстве: понятие, значение и пределы: монография. М.: Юрлитинформ, 2016.
- EDN: VSHCOH
- Анишина В.И., Назаренко Т.Н. Реализация принципа правовой определенности в российской судебной системе/Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 2. С. 40-47.
- EDN: PUJHOT
- Аширбекова М.Т. Влияние принципа правовой определенности на построение систем судебно-поверочного производства УУС и УПК РФ/Уголовное судопроизводство. 2014. № 3. С. 6-10.
- EDN: OTUEHZ
- Барышников П.С. Влияние Совета Европы на гражданское процессуальное право России/Актуальные проблемы российского права. 2016. № 2. С. 61-69.
- EDN: VUTHTX