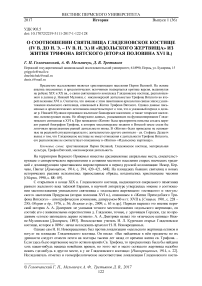О соотношении святилища Гляденовское костище (IV в. до н. э. - IV в. н. э.) и "Идольского жертвища" Из жития Трифона Вятского (вторая половина XVI в.)
Автор: Головчанский Г.П., Мельничук А.Ф., Третьяков Д.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Археология и этнография
Статья в выпуске: 1 (36), 2017 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования является христианизация населения Перми Великой. На основе анализа письменных и археологических источников подвергается критике версия, выдвинутая на рубеже XIX и XX вв., о связи святилищного комплекса Гляденовское костище, расположенного в долине р. Нижней Мулянки, с миссионерской деятельностью Трифона Вятского во второй половине XVI в. Считается, что именно с этим памятником археологии связан эпизод уничтожения языческого святилища, описанный в Житии Трифона Вятского. Однако данные письменных и археологических источников свидетельствуют о том, что в указанный период в долине р. Нижней Мулянки проживало языческое башкирское население, а также татарское население, исповедующее ислам. Не обнаружено данных, указывающих на функционирование Гляде-новского святилища в XVI в. При написании «Жития» была предпринята попытка создать вариант ранней биографии Трифона, в котором миссионерские подвиги в Вятской земле стали бы логичным продолжением ранней деятельности инока. В «Житии» были проведены не основанные на реальной ситуации параллели с деятельностью другого святителя - св. Стефана. Делаетч вывод о том, что Гляденовское костище не имеет отношения к деятельности Трифона Вятского, его расположение не соответствует описанному в «Житии» «Идольскому жертвищу».
Христианизация перми великой, гляденовское костище, материальная культура, трифон вятский, миссионерская деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/147203907
IDR: 147203907 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-1-122-128
Текст научной статьи О соотношении святилища Гляденовское костище (IV в. до н. э. - IV в. н. э.) и "Идольского жертвища" Из жития Трифона Вятского (вторая половина XVI в.)
На территории Верхнего Прикамья известны средневековые сакральные места, свидетельствующие о синкретическом переплетении в сознании местного населения старых языческих традиций с доминирующим христианским мировоззрением в период русской колонизации: Искор, Кер-чево, Пянтег [ Кривощёков , 1914, с, 394, 420–421, 648]. На площадках бывших святилищ в новых исторических реалиях исполнялись православные обряды, воздвигались христианские часовни [ Оборин, 1990, с. 88– 89].
С открытием в конце XIX в. Гляденовского костища, выдающегося сакрального памятника раннего железного века таёжной Евразии, в научной литературе утвердилась мнение о соотношении местоположения уникального святилища с «идольским жертвищем» «остяцкого» и «вогульского» населения Приуралья (вторая половина XVI в.), описанным в «Житии Преподобного Трифона Вятского» – агиографическом сочинении, датируемом 60-и гг. XVII в. [ Спицын, 1901, с. 228 – 230; Оборин и др., 1976, с. 36; Белавин и др. , 2009, с. 63 и др.]. Первым выразил это мнение пермский историк А. А. Дмитриев: не указывая точного местоположения «идольского жертвища», он соотнёс его с живописными окрестностями д. Гляденово, точнее, с урочищем Городок, где по преданиям «стояло заповедное дерево остяков». А. А. Дмитриев назвал это «языческое капище» Ниж-не-Муллинским [ Дмитриев , 1893]. Впоследствии учитель И. Л. Курочкин открыл Гляденовское костище, которое в 1896 г. начал исследовать археолог Н. Н. Новокрещенных.
Однако сам Н. Н. Новокрещенных был против локализации «идольского жертвища остяков и вогул» на площадке Гляденовского костища. Он писал: «Все найденные в нём предметы по их древности следует отнести почти на полторы тысячи лет назад от времени жития св. Трифона… Если здесь было жертвенное место остяков времён Св. Трифона, то при раскопках была бы найдена хоть какая-нибудь вещица новейших времен, но этого нет и место остяцкого жертвища надобно искать где-нибудь в другом месте, а у не Гляденовского костища» [ Новокрещенных , 1914, с. 22]. Исследователь отметил и геоморфологическое несоответствие локализации Гляденовского кости-
ща остяцкому языческому капищу: «В житии говорится, что проезжие из Чердыни "плыша Камою мимо того диавальского жилища и на их нечестивое жертвище смотряху". От устья р. Юрчим до Камы не меньше четырёх вёрст и едва-ли, плывя по Каме, можно что-нибудь рассмотреть на чистом поле, окруженным лесом» [ Новокрещенных , 1914, с. 22]. Н. Н. Новокрещенных обращал внимание на местное предание о том, что «остяцкая» священная берёза или ель стояла в боровом лесу. Учитывая то, что в Житии Трифона Вятского помимо «жертвища» упоминается рядом с ним остяцкое кладбище, он предположил, что эти более поздние памятники расположены к востоку от Гляденовской горы, в окрестностях д. Малая Гляденово, где коренной берег р. Камы переходит в песчаную боровую террасу. Нам известно, что где-то здесь Н. Н. Новокрещенных выявил остатки древнего могильника, на площади которого изучил одно погребение с обломками меча и фрагментами керамики неясного хронологического происхождения [ Новокрещенных , 1914, c. 22–23]. К сожалению, локализация этого некрополя была утрачена и в дальнейшем он не исследовался.
Среди обширного материала раннего железного века Гляденовского костища хронологически диссонансными находками выглядят 9 двурогих железных срезней с упором (тип 60 по классификации А. Ф. Медведева). А.Ф. Медведев, опираясь на материалы Гляденовского костища, указывал, что « появились наконечники этого типа на рубеже нашей эры в Прикамье и употреблялись по всей Восточной Европе до позднего средневековья (курсив наш. – Г.Г., А.М., Д.Т.) [ Медведев , 1966, с. 72]. Только эту группу находок в какой-то мере можно связать со временем существования «остяцкого» или «вогульского» святилища, уничтоженного Трифоном Вятским. К сожалению, неясны условия нахождения этих метательных орудий. В ходе новейших исследований Гляденовского костища начиная с 80-х гг. ХХ в. ни одного подобного наконечника не выявлено, что заставляет крайне осторожно связывать их с площадкой святилища раннего железного века. Следует отметить то обстоятельство, что наконечники данного типа использовались для промысла птиц. Не исключено, что район Гляденовской горы был местом охоты позднесредневекового татарского или башкирского населения бассейна р. Нижней Мулянки и найденные наконечники попали на площадку святилища во время охоты, следовательно, прямого отношения к «идольскому жертвищу» Трифона Вятского не имеют [ Лепихин, Мельничук, 1996, с. 137].
Деятельность Трифона Вятского известна нам достаточно подробно благодаря источнику «Житие и жительство и отчасти чудеса Преподобного и Богоносного отца нашего Трифона, просиявшего в постных подвизех в странах Вятских во обители Успения Пресвятая Богородицы во граде Хлынове» ( Житие и жительство …, 1905), написанному в период между 1690 и 1764 гг. [ Стру-минский, 1905, с.48]. Знакомство с источником порождает много вопросов, связанных с нестыковками и противоречиями в тексте. На эти противоречия указал И.М. Осокин, придя к выводу о том, что христианское просвещение «пермских инородцев» Трифоном Вятским в целом носило «случайный характер», а не было «следствием заранее обдуманного плана», было «кратковременным» – не более полутора месяцев и было прервано набегом черемисов на Верхнее Прикамье в 1572 г. [ Осокин , 1904, с. 34]. И.М. Осокин, опираясь на известия Жития Трифона Вятского о том, что миссионер поселился в месте, «идеже текут от единаго устия две реки, именуемыя мулинския, и раз-двоишася каждо их в страну свою, и тамо обрете Преподобный в пустыни чистое поле, остенено лесом зело красно, исполнено цветы благовонными… Бяше же поле то жертвище и кладбище на нем остяцкое» (Житие и жительство...,1905, с.62), заключил, что создатели агиографического сочинения совершенно не представляли географию местности, где вёл подвижническую деятельность преподобный. Они не знали, что реки Верхняя и Нижняя Мулянка разделены значительным пространством и каждая впадает в Каму отдельно, имея свои истоки и водосборы [ Осокин, 1902, с. 77].
Известно, что деятельность выдающегося миссионера народа коми Святого Стефана Пермского подтверждается не только его подробным житием, созданным Преподобным Епифанием Премудрым после смерти святителя (конец XIV – начало XV в.), но и летописными и другими письменными источниками (Вычегодско-Вымская…, 1958). В то же время подвижничество Трифона Вятского среди мулинских «остяков» и «вогул» совершенно не отражено в других документах. Удивительно, но Строгановы относились к деятельности Трифона Вятского в своих вотчинах совершенно индифферентно, и его имя не упоминается в строгановских летописях и других документах XVI–XVII вв. [ Шумилов , 1996]. Интерес к подвижнической роли Трифона Вятского в истории Перми Великой впервые проявился лишь с развитием краеведческой деятельности земских обществ в Пермской губернии в конце XIX в. и появлением работ А.А. Дмитриева, И.М. Осокина,
Н.Н. Новокрещенных, а также публикации ранее неизвестной редакции Жития Трифона Вятского В. Я. Струминским. Первая часовня, посвященная подвижнической деятельности Трифона Вятского, была воздвигнута у подножия северного склона Гляденовской горы только в 20-е гг. ХХ в. священником Михаилом Андреевичем Козьминым, впоследствии репрессированным. Сама часовня был разрушена в 30-е гг. ХХ в. (Архив Красного…. Ф. 2. Оп. 13. Д. 8) [ Коренюк, Мельничук , 2016, с. 129].
Никаких следов миссионерской деятельности Трифона Вятского в окрестностях г. Перми не сохранилось. В начале ХХ в. И. М. Осокин пишет: «В настоящее время среди русского населения…. сохранились только смутные предания о посеченной кем-то боготворимой березе, а не ели, но имя преп. Трифона для местных жителей, положительно неизвестно; их удивляет, что в их местах жил когда-то святой; даже бывшие раскольничьи начетчики незнакомы с житием преп. Трифона. В церкви Н. – Мулов нет ни одного какого бы то ни было письменного или вещественного памятника, который каким-нибудь образом был бы связан с именем преподобного. Нет даже иконы его… В церкви Верхн. Мулов есть образ преп. Трифона, но приобретен он недавно, если не ошибаемся, пожертвован каким-то Вятским уроженцем» [Осокин, 1902, с. 82].
В настоящее время следует признать, что никаких вогульских (мансийских) общин по течению р. Нижней Мулянки никогда не проживало. Невозможно представить, что вогулы, занимавшиеся охотой и рыболовством в среднем и верхнем течении р. Чусовой, могли проникать для каких-то молений на территории, занятые чужеродным по культуре и языку кочевым позднесредневековым, пусть и языческим, башкирским населением. На наш взгляд, экзоэтноним мансийского народа «вогулы» появился в Житии Трифона Вятского как калька из сочинения Епифания Премудрого о Стефане Пермском. Там этот термин впервые оформляется как обозначение зауральского народа угорской языковой группы.
Территория бассейна речки Нижние Мулы (правильнее Муллы), или Нижней Мулянки, ис-покон веку принадлежала башкирам рода Мул племени Гайна. По преданиям, записанным у татаро-башкирского населения в 1794 г. в деревнях Кояново и Култаево, здесь во второй половине XVI в. обитало два юрта ясачных татар и башкир во главе с братьями Урак-беем и Сиюндуком Мамеку-ловыми, которые переселились в район будущей Перми после падения Казанского ханства в 1552 г. ( Шишонко, 1882, с. 126–127). Муллинские башкиры в это время были язычниками, занимались скотоводством и являлись ясачным населением, совершенно неподсудным клану Строгановых: ислам среди них распространился только со второй половины XVII в. [ Оборин, 1973, с. 80; Шумилов, 1996, с. 11]. О том, что территория окрестностей Перми в позднее Средневековье входила в ареал обитания башкирских кочевых родов, свидетельствует шежере (родословная) рода кара-табын, в котором повествуется о продвижении рода из Южного Зауралья на берега Средней Камы: «Кара Табын Бей бросил древние земли перешёл к реке Чулман, на лодке приплыл на место, где возник город Пермь» [ Исхаков , 1998, с. 129].
Остатки башкирского мусульманского кладбища с элементами язычества были зафиксированы на городище Алтен-Тау (с. Баш-Култаево, среднее течение Нижней Мулянки), где В. Ф. Генин-гом и Е.Н.Черных вскрыт ряд так и неопубликованных погребений позднесредневековых башкир, определённых ими как «современное мусульманского кладбище» в пределах вала [ Черных , 1959, с. 152, рис. 3]. Между тем в одном из погребений найден пояс, на геральдических накладках которого изображены львы. К.А. Руденко отнёс его к позднекочевническим древностям XV–XVII вв. [ Руденко, 2001]. Крайне интересно, что аналогичная геральдическая накладка обнаружена во время современных полевых сборов на территории строгановского Орла-городка, функционировавшего до конца XVII в. Возможно, это свидетельствует о том, что предмет мог попасть в центр северной вотчины Строгановых из их южных прикамских владений, где рядом проживали кочевые башкиры.
Что касается «остяков», также упоминаемых в Житии Трифона Вятского в бассейне р. Нижней Мулянки, то считать их древнеугорским (древнехантыйским) населением нет никаких оснований. Экзоэтноним «остяк» впервые в источниках по Перми Великой появляется лишь во второй половине XVI в. Многие исследователя выводят происхождение данного этнического термина из татарского истек, уштяк, иштек – дикий, невежественный, непокорный [Белявский, 2004, с. 64; Миссонова, Соколова, 2006, с. 13]. Таким образом, «остяками» в бассейне р. Нижней Мулянки называлось языческое средневековое башкирское население. Скорее всего в Пермском Приуралье этот экзоэтноним в письменных источниках второй половины XVI – начала XVII в. мог обозначать различное инородное языческое или мусульманское, с ещё выраженными языческими традициями, население. Это могли быть удмурты-вотяки («востяки»), марийцы, башкиры, но не ханты (ась-яхи – обские люди – остяки по З. П. Соколовой), так как нижнее и среднее течения р. Оби в состав Русского государства окончательно вошло лишь в первой четверти XVII в. [Мельничук, Третьяков, 2016, с. 200].
Но в житии упоминается еще один народ – «агаряне». По мнению И.М. Осокина, «агарянами» автор жития называет тех же «остяков». Исследователь усматривает в этом некоторые намёки на татар, которые, как он пишет, жили в тех местах одновременно с башкирами. И.М. Осокин аргументирует свое утверждение тем, что «агаряне» – термин, обычно прилагаемый к магометанам, недаром их веру автор жития называет «бусурманской прелестью», т.е. дает явный намёк на ислам [ Осокин , 1904, с. 27]. По нашему мнению, именно «агаряне», т.е. татары-мусульмане, проникли на берега Нижней Мулянки после падения Казанского ханства в 1552 г., следовательно, «идольское жертвище» им принадлежать не могло. В то же время язычники «остяки», под которым нужно понимать башкирское население, начали осваиваться в юго-восточной части Пермского края как минимум с золотоордынского периода (вторая половина XIII в.). Предки башкир могли проникнуть в Сылвенско-Иренское поречье, а также в бассейн р. Тулвы уже в X–XI вв., после распада праперм-ской неволинской культурной системы во второй половине X в. [ Голдина , 2012, с. 227]. Даже сам факт попытки миссионерской деятельности Трифона Вятского среди них вызывает крайнее сомнение. Если бы Трифон действовал на их священном месте подобно Стефану Пермскому, то наверняка был бы убит. Его не смогли бы защитить Строгановы: башкиры никоим образом не подчинялись их администрации, являясь ясачным государевым населением.
Предание о том, что в приустьевой части р. Нижняя Мулянка располагалось жертвенное место, возможно, имеет реальную подоснову. Об этом свидетельствует наличие у самого с. Нижние Муллы реки Молебка, левого притока р. Нижней Мулянки. Обычно топоним Молебка ассоциируется в пермской ономастике с местом, связанным с отправлением языческих культов коми, остяков, вогул: Молебный Камень на р. Сылве, Молебный Камень на р. Язьве, Молебный Камень на р. Бабке, Молебный овраг на р. Шакве, Молебный Камень на р. Вишере [ Полякова , 2007, с. 22–23].
Мы не отрицаем, что Трифон Вятский мог быть в приустьевой части р. Нижней Мулянки и, возможно, по восточнохристианской традиции исихазма вёл здесь аскетический и отшельнический образ жизни монаха-молчальника. Но проведение им активной миссионерский деятельности в среде местных «остяков» или «агарян» вызывает сомнение.
Эпизод «обращения» остяцкого населения, проживавшего на Каме близ рек Мулянок, может быть реконструирован следующим образом. Около 1570 г. Трифон отправляется «для иноческих подвигов» в устье р.Верхняя Мулянка, где у него возникает конфликт (возможно, на почве вероисповедания) с татаро-башкирским населением. В Строгановскую администрацию отправляется жалоба на Трифона, обострение отношений с исламским населением в условиях угрозы набега черемисов нежелательно, поэтому Трифона удаляют в Пыскорский монастырь (1572 г.) ( Житие и жительство… , 1905, с.64). Попыток целенаправленной христианизации исламизированного населения не предпринимается. При написании «Жития» была сделана попытка создать вариант ранней биографии Трифона, в котором миссионерские подвиги в Вятской земле стали бы логичным продолжением ранней деятельности инока, провести параллели с деятельностью другого святителя – св.Стефана. В любом случае «идольское жертвище» из жития Трифона Вятского не имеет никакого отношения к площадке знаменитого памятника раннего железного века Гляденовское костище.
Список литературы О соотношении святилища Гляденовское костище (IV в. до н. э. - IV в. н. э.) и "Идольского жертвища" Из жития Трифона Вятского (вторая половина XVI в.)
- Белавин А. М., Иванов В. А., Крыласова Н. Б. Угры Предуралья в древности и средние века. Уфа: Издательство БГПУ, 2009. 285 с
- Белявский Ф. М. Поездка к Ледовитому морю. Тюмень: Мандр и Ка, 2004. 263 с
- Голдина Р. Д. О датировке и хронологии неволинской культуры (конец IV-начало IX в.)//Древности Прикамья эпохи железа (VI в. до н. э. -XV в. н. э.: хронологическая атрибуция: Матер. и исслед. Камской-Вятской экспедиции. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. Т. 25. С. 203-285
- Дмитриев А. А. Житие св. Трифона Вятского, как источник сведений о Перми Великой XVI в. // Тр. Пермской учен. архив. комиссии. Пермь: типография П.Ф.Каменского, 1902. Вып. 2. С. 20 - 40
- Кривощёков И. Я. Словарь географическо-статистический Чердынского уезда Пермской губернии. Пермь: Чердын. уезд. земство, 1914. 841 с
- Лепихтн А. Н., Мельничук А. Ф. Новое в исследовании Гляденовского костища//Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера (К 450-летию Преподобного Трифона Вятского Чудотворца): Матер. междунар. науч. конф. Киров: Кировская областная типография, 1996. Т. 1. С. 135139
- Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам нового времени (этнологический взгляд на историю волго-уральских татар XV-XVI вв. Казань: Издательство «Мастер Лайн», 1998. 276 с
- Коренюк С. Н., Мельничук А. Ф. Гляденовский историко-археологический комплекс: проблема сохранения и музеефикации//Археология сакральных мест России: Сб. тез. докл. науч. конф. с международным участием. Соловки: Соломбальская типография, 2016. С. 127-131
- Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие VIII-XIV вв.//Свод археологических источников. М.: Наука, 1966. Вып. Е! -36. 184 с
- Мельничук А. Ф., Третьяков Д. А. Загадочные иньвенские, обвинские, очёрские «остяки», «вогулы» и «татары» в позднесредневековых источниках Приуралья и их место в изучении истории Пермского края//XV Бадеровские чтения по археологии Урала и Поволжья: Матер. Всерос. науч. -практ. конф. Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2016. С. 198-202
- Миссонова Л. И., Соколова З. П. Феномен устойчивости этнической идентификации уйльта в контексте этнонимической истории народов Севера (конец XIX - начало XXI в. // Этногр. обозрение. 2006. № 1. С. 129-145
- Новокрещенных Н. Н. Гляденовское костище//Тр. Пермской учен. архив. комиссии. Пермь, 1914. Т. 11. С. 19-97
- Оборин В. А. Древние поселения на территории Перми и ее окрестностей//250 лет Перми: Матер. науч. конф. «Прошлое, настоящее и будущее Перми». Пермь. 1973. С 77-82
- Оборин В. А. Заселение и освоение Урала в конце XI -начале XVII века. Иркутск, 1990. 168 с
- Оборин В. А., Вечтомов А. Д., Голдина Р. Д., Поляков Ю. А. Памятники археологии Пермской области. Пермь. 1976. С. 22-22
- Осокин И. М. Места подвигов преподобного Трифона Вятского в Пермском крае//Тр. Пермской учен. архив. комиссии. Пермь, 1902. Вып. 5. С. 76-91
- Осокин И. М. К вопросу о миссионерской деятельности преподобного Трифона//Тр. Пермской учен. архив. комиссии. Пермь: типография П.Ф.Каменского, 1904. Вып. 7. C. 17-48
- Полякова Е. Н. Русская речь Пермского края в историческом аспекте (XIII-XVIII вв.)//Живая речь Пермского края в синхронии и диахронии: Матер. и исслед. Пермь: изд-во Перм. гос. ун-та, 2007. Ч. 1 С. 4-42
- Руденко К.А. Поясной набор из могильника Алтэн-Тау в Пермской области//Пермский регион: история, современность, перспективы: Матер. междунар. науч.-практ. конф. Березники, 2001. С.39-41
- Спицын А. А. Гляденовское костище//Зап. Имп. Рус. археол. об-ва. СПб.: Типография М. А. Александрова, 1901. Т. 12, вып. 1-2. C. 228-269
- Струминский В.Я. Житие преподобного отца нашего Трифона Вятского Чудотворца//Труды Пермской учен. архив. комиссии. Пермь: типография П.Ф.Каменского, 1905. Вып. 9. С.48
- Шумилов Е. Н. Трифон Вятский и Строгановы: история взаимоотношений//Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера (К 450-летию Преподобного Трифона Вятского Чудотворца): Матер. междунар. науч. конф. Киров: Кировская областная типография, 1996. Т. 1. С. 11-13
- Шишонко В. Н. Пермская летопись. Второй период. Пермь: Типография губернской земской управы, 1882. 502 с
- Черных Е. Н. Городище Алтен-Тау//Отчеты Камской (Воткинской) экспедиции Ин-та археологии АН СССР. М., 1959. С. 152-163