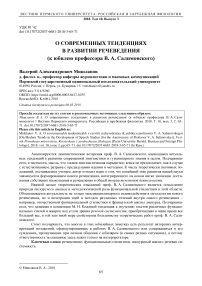О современных тенденциях в развитии речеведения (к юбилею профессора В. А. Салимовского)
Автор: Мишланов Валерий Александрович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Анализируются лингвистические воззрения проф. В. А. Салимовского, касающиеся актуальных тенденций в развитии современной лингвистики и гуманитарного знания в целом. Подчеркивается, в частности, мысль, что «новая лингвистическая парадигма» вовсе не предполагает, как в случае с естествознанием, разрыва с предыдущими идеями и методами. К числу теоретически значимых положений, отстаиваемых ученым, автор относит идею о том, что новейший этап развития нашей науки знаменуется формированием нового речеведения, интегрирующего на новом витке эволюции достижения собственно языкознания и речеведения в общей теории текстовой деятельности. Важной целью теоретических изысканий проф. В. А. Салимовского является осмысление природы дискурсного анализа и методологической роли функциональной стилистики в этой области. Обосновывается актуальность не только междисциплинарного взаимодействия в методологии нового речеведения, но и интеграции идей и методов различных течений внутри самого речеведения -например, отечественной функциональной стилистики и французской школы дискурса. Подчеркивается, что заданная в концепции М. Н. Кожиной тенденция к изучению текстов различных функциональных стилей и жанров под углом зрения речевой системности, приобретающая в наше время все больший вес, в той или иной мере свойственна большинству теоретических работ проф. В. А. Сали-мовского. Стоит подчеркнуть, что многое в этих юбилейных заметках есть результат авторских интерпретаций положений, сформулированных в работах В. А. Салимовского или содержащихся в его суждениях, прозвучавших при личном общении с юбиляром (в самых разных ситуациях), а потому ответственность за сказанное здесь лежит только на интерпретаторе.
Речеведение, функциональная стилистика, дискурсный анализ, речевая системность
Короткий адрес: https://sciup.org/147226922
IDR: 147226922 | УДК: 81''42 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-3-65-71
Текст научной статьи О современных тенденциях в развитии речеведения (к юбилею профессора В. А. Салимовского)
Сколь быстротечно бытие наше на склоне… Кажется, вчера только отмечали мы пятидесятилетний юбилей профессора Владимира Александровича Салимовского. А прошло уже десять лет.
И к нынешнему юбилею Владимира Александровича наш «Вестник» вновь любезно предоставляет свои страницы для заметок о его научном творчестве и преподавательской деятельности. Разумеется, и ныне я могу повторить, лишь усиливая положительно-оценочную модальность, все то, что было написано о Владимире Александровиче в тех заметках [Мишланов 2008]. В его преподавательской деятельности и научном творчестве за минувшее десятилетие еще более, на мой взгляд, проявилось то, что в научном обиходе именуется философским складом ума. И особой загадки в этом не заключено: настоящий ученый-лингвист не может не быть в то же время и философом, ибо таков предмет его, лингвиста, пристрастного внимания. И анализируя научные труды юбиляра, изданные в недавнем времени, я могу лишь повторить прежний свой вывод: его речеведческие по непосредственному предмету исследования имеют глубинной целью построение «философии диалога» [Салимовский 2005; Мишланов, Салимовский 2006, 2010].
Чем глубже проникает взор языковеда в природу языка-речи, тем более он утверждается в мысли о том, что без его (лингвистических) знаний и методов нельзя понять по-настоящему человеческую духовную природу. Мне кажется, именно в обосновании этой идеи видит В. А. Са-лимовский главную цель своих лингвистических исследований.
Владимиру Александровичу свойственно (причем в большей мере, чем многим иным из нашей филологической ученой братии) то, что можно назвать творческой мобильностью. Но находясь в постоянном поиске нового, он неизменно сохраняет верность фундаментальным идеям основателей отечественной функциональной стилистики, прежде всего своего учителя – М. Н. Кожиной. Ведь что бы ни говорили о научных революциях и новых научных парадигмах, гуманитарных наук это касается в весьма малой степени.
Как известно, идеи Т. Куна, осмыслившего эпистемологические процессы в естествознании ХХ в. как научную революцию, как коренную смену методологических принципов и формирование новой научной парадигмы [Кун 1975], переносят и на область гуманитарного знания. Но гуманитарные науки, в отличие от физики, не могут порвать с прошлым, с «преданиями ученой старины», как выразился однажды Р. О. Якобсон.
Их задачи обращены к деонтологии, а потому они даже поставлены не могут быть без обращения к преданию, сиречь к традиции, к передаче (искони из уст в уста, а позже из текста в текст) духовного опыта, знаний о том, что принадлежит лишь миру человека и общества.
Материализован же этот опыт в текстах, или в знаковых конструкциях разной природы, весьма прихотливо соотнесенных друг с другом многочисленными узами. Поэтому гуманитарные науки вполне можно определить как текстоцентрические , т. е. науки, обращенные к тексту как к исходному (и, в сущности, единственному) материалу исследования. Такова в том числе, между прочим, и философия, вырастающая из мифологий и религий и ставящая целью творение все новых смыслов. История и этнография, филология и искусствоведение суть в чистом виде текстоцентрические науки, причем в их кругу филология с речеведением в ее ядре стоит, несомненно, на первом месте. Как и философия, она довлеет себе, ибо, толкуя тексты, создает собственный мир, для человека не менее важный, чем мир за пределами текстов.
Поэтому в эпистемологическом аспекте на первый план выдвигается герменевтика , реализующаяся в экзегетике поэтических текстов (ибо подлинная поэзия никогда не облекается в прозрачную форму, а, напротив, заключает в себе тайные смыслы, представляя качество, которое У. Эко определил «как способность текста порождать различные прочтения, не исчерпываясь до дна» [Эко 1989: 432]), и дискурсный анализ текстов других сфер современного коммуникативного пространства.
Осмысление природы дискурсного анализа и методологической роли функциональной стилистики в этой области и было, на мой взгляд, основной целью речеведческих изысканий В. А. Салимовского в минувшее десятилетие. Многолетний опыт практической деятельности в области судебной лингвистической экспертизы дал возможность осмыслить сущность герменевтического и дискурсного анализа текстов (как вербальных, так и поликодовых). Названные виды семантических реконструкций объединяет установка на поиск имплицитных составляющих смысла текста, но если экзегетика нацелена на выявление связей с базовыми слоями духовной культуры (реминисценций и аллюзий), то дискурсный анализ направлен на обнаружение «актуальных импликатур» в семантике «сиюминутных» текстов (или текстов-эфемеров, не претендующих на место в духовной культуре народа, или, по определению Ю. М. Лотмана, в его се-миосфере), т. е. пресуппозиций, читаемых только сейчас и здесь.
Выводы, к которым приходит В. А. Салимов-ский, осмысливая изменения в новейшей лингвистике, как представляется, вполне согласуются с обозначенной выше мыслью о том, что «новая лингвистическая парадигма» отнюдь не требует отказа от традиционных воззрений. Наше время знаменуется формированием нового речеведе-ния, интегрирующего на более высоком витке эволюции достижения собственно языкознания и речеведения в общей теории текстовой деятельности . «Заданный в начале ХХ в. вектор развития теоретической лингвистики – от речевой деятельности, взятой в целом (langage), к дихотомии язык (langue) / речь (parole) и к имманентным свойствам языка – со временем изменил направление на противоположное – от системы языка к ее реализации в последовательности языковых знаков и, далее, к многообразной и разнородной текстовой деятельности в общении, т. е., по существу, к langage» [Сали-мовский 2010: 202].
К числу теоретических обобщений, отстаиваемых В.А. Салимовским, принадлежит и вывод о том, что новое речеведение по самому своему объекту является синергетической дисциплиной , накапливающей эпистемические эффекты на пограничье наук: оно призвано изучать дискурс, понимаемый как речь, фиксируемую в единстве с психологическими, социальными, культурными и иными факторами, и если именно так понимать речь, то термины «речеведение» и «дискурсный анализ», по существу, оказываются синонимичными. В зависимости от расставляемых акцентов само речеведение расслаивается на ряд направлений, между которыми вполне возможна понятийная и методологическая координация. В набросках статьи, посвященной текстам церковной проповеди в аспекте функциональной стилистики и дискурсного анализа, В. А. Сали-мовский отмечает, что эти направления, имея один и тот же объект, выделяют в нем разные, хотя и близкие, частично пересекающиеся предметные области. Однако связи между этими различными «срезами» объекта во многих случаях остаются непроясненными. Это делает актуальной задачу синтеза близких исследовательских подходов при разработке объединяющей их проблематики [Synteza 1991].
В решении этой актуальной задачи В. А. Са-лимовский также опирается на идейное наследие М. Н. Кожиной, полагавшей, что плодотворная интеграция идей и методов исследования может быть реализована в рамках отечественной функциональной стилистики и дискурсного анализа в его французском варианте [Квадратура 1999; Фуко 2004]. Общими для названных направлений являются ключевые признаки их базовых понятий (функционального стиля и дискурса), а именно: «динамизм, процесс использования языка, когнитивно-речевая деятельность; детерминация изучаемого объекта… условиями производства речи (высказывания); принцип системности при использовании языковых средств…; историзм как дискурса, так и функционального стиля; тексты – письменные и устные – как результат речевой (дискурсной) деятельности (во-площенность ее в текстах) и в то же время материал исследования; междисциплинарный метод анализа» [Кожина 2014: 504].
Для стилистических исследований особенно продуктивными оказались положения о том, что речевая деятельность включается в деятельность неречевую (духовную или материальную) и что поэтому текст, реализующий эту деятельность или способствующий ее реализации, детерминирован социальными отношениями.
Но и дискурсный анализ предполагает выявление связей речевого произведения с типологически релевантными признаками общественного устройства (формации) и идеологии (мифологий). Дискурс предстает как «практика, обладающая собственными формами сцепления и собственными же формами последовательности» [Фуко 2004: 168].
Всякая духовная (речемыслительная) деятельность неизбежно реализуется как текстопо-рождение, которое, как известно, складывается из воспроизводства (по определенным деривационным моделям) и производства (причем чем сложнее текст, тем больше доля производимого). Другими словами, постоянная возобновляемость сложившихся в обществе видов духовной деятельности предполагает появление определенных высказываний (и их блоков) со своими особенностями стилистико-языковой организации, реализующих повторяющиеся цели. По М. Фуко, в схожих условиях речемыслительной деятельности не только воспроизводятся текстовые формы, но во многом предзаданы и содержательные компоненты (идеи и оценки). Системность дискурса в ее социально-исторической обусловленности предстает как «отношение между высказываниями или группами высказываний и событиями иного порядка (техника, экономика, социология, политика)» [там же: 30]. Указывая на основные формы высказываний в медицинском дискурсе XIX в., М. Фуко формулирует важнейший вопрос дискурсного анализа: «Какие же сцепления существуют между ними? Какова их необходимость? Почему появляются именно эти высказывания, а не какие-либо другие?» [там же: 51]. Ср. суждения М. Фуко о заданности высказываний говорящему: «…Мы не можем говорить – все равно в какую эпоху – все, что нам заблагорассудится; нелегко сказать что-либо новое»; «Не важно, кто говорит, но важно что он говорит» [Фуко 2004: 45, 123]. Добавим, что еще труднее сказать о старом (предзаданном) совершенно по-новому, ломая сложившиеся в данном дискурсе текстовые и стилистические нормы (если только речь не идет о стилистике и поэтике постмодернизма).
Таким образом, выявляя дискурсную заданность высказываний не только в формальном (стилистическом), но и отчасти в содержательном аспекте, мы реализуем интегральный подход к изучению речевой организации (системности дискурса), по-разному осмысливаемой в функциональной стилистике и дискурсной теории. Очевидно, в той или иной мере такой подход может быть применен при речеведческом изучении текстов любых функциональных стилей (исключая разве что поэтические тексты).
Вместе с тем в функциональной стилистике и в теоретическом плане, и на конкретном анализе материала более детально, чем в работах французской школы дискурса, проработан вопрос о системности речи [Кожина 2008: 198], который, как отмечают исследователи, в последнее время получает статус одной из центральных проблем лингвистической теории [Дементьев 2010]. А поскольку специфика определенного дискурса детерминируется в целом теми же факторами, что и особенности какого-либо функционального стиля речи, то и связь между теми аспектами системности речи, которые изучаются функциональной стилистикой, с одной стороны, и дискурсным анализом – с другой, во многом проясняется, если мы учитываем строение (т. е. заданную в данных условиях относительно устойчивую модель) социальной деятельности (практики) и ее воспроизводимость по исторически заданным основаниям.
Мне представляется, что изучение текстов различных функциональных стилей и жанров под углом зрения речевой системности , заданное в концепции М. Н. Кожиной, в той или иной мере свойственно большинству теоретических работ проф. В. А. Салимовского. «Речевая системность понимается как взаимосвязь языковых средств в речевой разновидности (внутри каждого языкового уровня и между ними) на экстра-лингвистической основе (М. Н. Кожина). Развивается мысль о том, что выбор и использование языковых единиц – от фонетических до синтаксических – определяется некоторой общей для данной коммуникативной сферы целевой установкой (назначением соответствующего вида деятельности и формы сознания) в единстве с другими экстралингвистическими факторами» [Салимовский 2018: 73].
Актуальная задача речеведения состоит, таким образом, в том, чтобы, выдвигая на первый план «коммуникативно-деятельностные аспекты текста», раскрыть соотносительность лексических и грамматических единиц в стилистикоречевой системности. «Представления о взаимосвязи в текстах лексических и грамматических средств становятся более полными и конкретными по мере включения в анализ, помимо инвариантных свойств определенного вида деятельности (научной или политической, правовой и др.), особенностей ее строения, а именно системы образующих ее действий, и затем предметной направленности этих последних» (там же). Конкретизация теоретических положений о речевой системности стиля (дискурса) открывает новые перспективы для дальнейшей разработки лингвистической теории стиля.
Именно в этом своем аспекте – стилистикоречевой системности – классическая функциональная стилистика, по мнению В. А. Салимов-ского, способна стать теоретической базой одного из новых прикладных ответвлений речеведе-ния – коммуникативной лингвистики (известной и под другими обозначениями: теории речевой коммуникации, теории массовой коммуникации, коммуникативистики, медиалингвистики и др.). Об эволюция функционально-стилистической проблематики в указанном направлении говорится, в частности, в одной из последних теоретических статей В. А. Салимовского, где «прослеживается развитие научных знаний о стилистикоречевой системности как способе эффективной коммуникации в той или иной ее сфере», а изменения в лингвостилистике характеризуются как закономерный процесс взаимодействия разных ее направлений, возникающих в соответствии с «представлениями о многоплановости человеческого общения» [Салимовский 2017: 34].
Осмысление многоплановости речевого общения должно быть включено и в систему ценностных координат, ибо, наряду с кооперативными практиками речевого взаимодействия, широко распространены конкурентные практики.
Как и прежде, Владимир Александрович активно и плодотворно изучает речеведческие аспекты извечной философской проблемы «Я – Другой» [см., например: Мишланов, Салимов-ский 2012, 2014]. Его исследования по этой теме лично меня убеждают, что речеведение в этом плане «паче философии», ибо именно оно дает философии (и психологии) пищу для размышлений на эту тему, а не наоборот. Означенная корреляция, формирующая в конечном итоге релевантную для социума (этноса) систему ценностных ориентиров (и, соответственно, антиценностей), может быть осмыслена почти исключи- тельно через коммуникативную призму. Ибо и речевые, и неречевые поступки конкретного человека определяются тем, что и как ему внушали и внушают «другие» и как вследствие этого образованы его ум и душа.
И хотя в изучении кооперативных (толерантных) и конкурентных (агональных) речевых практик накоплен уже немалый опыт: [Иссерс 1999; Культурно-речевая ситуация 2000; Культурные практики толерантности 2004; Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности 2003; Чернявская 2006 и др.], – исследования в этой сфере сохраняют немалый теоретический интерес, обладая при этом и прикладной значимостью. Стоит подчеркнуть в этой связи, что и результаты теоретических изысканий проф. В.А. Салимовского, направленные на изучение современного «дискурса враждебности» (см., в частности: [Салимовский, Ермакова 2011; Салимовский 2011]), и его богатейший практической опыт в области судебной лингвистической экспертизы находят самое активное и эффективное применение в преподавательской деятельности юбиляра. Вузовский ученый всегда еще и преподаватель, формирующий ум студента, и воспитатель, имеющий власть быть отчасти и творцом его души. Между этими ипостасями ученого не должно быть дисбаланса. Но это в идеале. В действительности же каждый из нас в большей мере либо ученый, либо педагог и лишь немногие приближаются к равновесию, столь ценному для вузовского ученого. Я знаю юбиляра не один десяток лет и, думаю, вправе утверждать, что ему это качество свойственно в высочайшей степени.
Professor in the Department of Journalism and Mass Communication
Perm State University
ResearcherID: K-6061-2018
Submitted 08.05.2018
Список литературы О современных тенденциях в развитии речеведения (к юбилею профессора В. А. Салимовского)
- Дементьев В. В. Теория речевых жанров. М.: Знак, 2010. 600 с.
- Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи/Омск. ун-т. Омск, 1999. 285 с.
- Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс, 1999. 416 с.
- Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2000. 378 с.
- Культурные практики толерантности в речевой коммуникации/под ред. Н. А. Купиной и О. А. Михайловой. Екатеринбург: УрГУ. 2004. 595 с.
- Кожина М. Н., Дускаева Л. Р., Салимовский В. А. Стилистика русского языка. М.: Флинта: Наука, 2008. 464 с.
- Кожина М. Н. Речеведение. Теория функциональной стилистики: избранные труды. М.: Флинта: Наука, 2014. 624 с.
- Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975. 288 с.
- Мишланов В. А., Салимовский В. А. Дискурс враждебности как социальный феномен//Язык вражды и язык согласия в социокультурном контексте современности:/отв. ред. И. Т. Вепрева, Н. А. Купина, О. А. Михайлова. Екатеринбург: УрГУ, 2006. С. 56-66.
- Мишланов В. А. К юбилею В. А. Салимовского//Вестник Пермского университета. Филология. 2008. Вып. 3(19). С. 127-128.
- Мишланов В. А., Салимовский В. А. Диалогичность церковно-религиозных текстов//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 6(12). С. 22-29.
- Мишланов В. А., Салимовский В. А. Интерактивная коммуникация в радиоэфире и ее лингво-прагматические функции//Человек и язык. Пермь: Прикамский социальный институт, 2012. С.55-64.
- Мишланов В. А., Салимовский В. А. Медийный дискурс политической борьбы и типы культуры речевого общения//Русский язык: исторические судьбы и современность: V Междунар. конгресс исслед. русского языка: Труды и материалы. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 18-21 марта 2014 г. С. 703-704.
- Салимовский В. А. Речеведение и философия диалога//Язык и общество в синхронии и диахронии. Саратов: Научная книга, 2005. С. 53-55.
- Салимовский В. А. Функциональная стилистика как речеведение//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 5(11). С. 202-207.
- Салимовский В. А., Ермакова Л. М. Экстремистский дискурс в массовой коммуникации Рунета//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2011. Вып. 3(15). С. 71 -80.
- Салимовский В. А. Культура речи и речевая антикультура//Дискурс, культура, ментальность/отв. ред. М. Ю. Олешков. Нижний Тагил: Нижнетагильск. гос. соц.-пед. академия, 2011. С. 34-50.
- Салимовский В. А. Функциональная стилистика в ее отношении к формирующейся коммуникативной лингвистике//Русский язык за рубежом. 2017. № 5. С. 34-39.
- Салимовский В. А. Взаимосвязь лексических и грамматических единиц в стилистико-речевой системности//Взаимодействие лексики и грамматики: тез. докл. междунар. конф. «Двенадцатые Шмелевские чтения» (24-26 февр. 2018 г.). М.: ИРЯ РАН, 2018. С. 73-74.
- Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности/отв. ред. Н. А. Купина и М. Б. Хомяков. М.: ОЛМА ПРЕСС, 2005. 542 с.
- Фуко М. Археология знания. СПб.: Гуманитарная академия, 2004. 416 с.
- Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого взаимодействия. М.: Флинта: Наука, 2006. 136 с.
- Эко У. Имя розы. М.: Книж. палата, 1989. 496 с.
- Synteza w stylistyce slowianskiej/red. S. Gajda. Opole: Instytut filologii polskiej, 1991. 219 s.