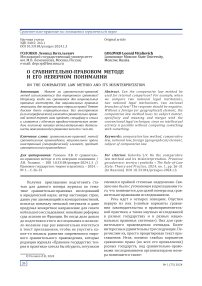О сравнительно-правовом методе и его неверном понимании
Автор: Головко Л.В.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Сравнительно-правовые исследования в юридической науке
Статья в выпуске: 1 (75), 2024 года.
Бесплатный доступ
Может ли сравнительно-правовой метод использоваться для внутреннего сравнения? Например, когда мы сравниваем два национальных правовых института, два национальных правовых механизма, две национальные отрасли права? Ответ должен быть отрицательным. Без иностранного (или географического) элемента сравнительно-правовой метод теряет свои предмет, специфику и смысл и сливается с обычным юридико-техническим методом, поскольку никакая интеллектуальная деятельность невозможна без сравнения чего-то с чем-то.
Сравнительно-правовой метод, сравнительное правоведение, национальное право, иностранный (географический) элемент, предмет сравнительного правоведения
Короткий адрес: https://sciup.org/142240173
IDR: 142240173 | УДК: 340.5, | DOI: 10.33184/pravgos-2024.1.3
Текст научной статьи О сравнительно-правовом методе и его неверном понимании
сменился крайней степенью недоумения. Связано оно было с уточнением в приглашении того, что понимается для целей номера под сравнительно-правовыми исследованиями.
Речь идет о четырех позициях. Опустим первую из них («любые варианты сравнения законодательства и правоприменительной практики, а также научных исследований в разных государствах и в разных национальных правовых системах»). Она для сравнительного правоведения очевидна. Более интересны и удивительны три следующие. Перечислим их, просто процитировав текст приглашения. Итак, помимо «любых вариантов сравнения» права (во всех его проявлениях) разных государств, под сравнительно-правовыми исследованиями организаторами номера понимаются также:
«– любые варианты сравнительного анализа аналогичных, сходных и противоположных правовых институтов внутри одной национальной правовой системы (здесь и далее выделено мной. – Л. Г.) и даже внутри одной отрасли права ;
– исторический анализ развития и функционирования любых правовых институтов и любых социально-правовых явлений;
– любые варианты межотраслевого сравнительно-правового анализа».
Иначе говоря, если мы анализируем соотношение положений, например, об обыске и выемке по российскому уголовно-процессуальному праву или о грабеже и разбое по российскому уголовному праву, то это сравнительно-правовое исследование, так как понять разграничение данных институтов невозможно без их сравнения. Здесь мы, видимо, сталкиваемся со сравнительным анализом «сходных институтов внутри одной отрасли права». Если анализируем развитие, допустим, уголовно-процессуального института мер пресечения по действующему УПК РФ с учетом новейших изменений законодательства (Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ и др.), то это также оказывается компаративистикой, так как мы вынуждены сравнивать ситуацию до, после и т. п. каждой конкретной реформы. Здесь перед нами сравнительно-правовое исследование в форме «исторического анализа развития любого правового института». Наконец, если мы анализируем основания возмещения государством вреда, причиненного в ходе уголовного судопроизводства, по ГК РФ (ст. 1070) и УПК РФ (гл. 18), находя какие-то коллизии, несоответствия, противоречия и думая, как их преодолеть, то имеем дело прямо-таки с апофеозом компаративистики в форме «межотраслевого сравнительно-правового анализа». Но вот если задумали вооружиться специальными знаниями в сфере иностранного права и написать, скажем, статью о новейших реформах суда ассизов во Франции, то к компаративистике это отношения не имеет, так как мы ничего ни с чем не сравниваем. Спасти может разве что необходимость волей-неволей прибегнуть в данном случае к историческому анализу, то есть также что-то с чем-то срав- нить в рамках эволюции французского уголовно-процессуального права. Но сам факт обращения в данном случае к иностранному праву ничего не меняет и не делает его априори более сравнительно-правовым по сравнению с историческим анализом, например, практики расследования органами дознания краж велосипедов в деревне Васильково Энской губернии и ее динамики за последние двадцать лет.
Что-то здесь не так. Наше понимание компаративистики явно пошло не в ту сторону, в силу чего пришлось отложить до лучших времен новейшие реформы суда ассизов во Франции (не до них) и заняться исправлением намечающихся методологических деформаций в области понимания предмета сравнительного правоведения.
Если говорить предельно кратко, то предложенная редакцией журнала трактовка сравнительно-правовых исследований полностью отрицает наличие у сравнительного правоведения какой-либо специальной сферы приложения и связанных с ней границ, делая акцент исключительно на глаголе «сравнивать». Такое понимание сравнительного правоведения можно назвать механическим , можно как-то иначе и даже жестче. Важно то, что, как только мы что-то с чем-то сравниваем, это автоматически превращает наш анализ в сравнительно-правовой, а соответствующее исследование – в компаративное. Имеет ли подобный подход право на существование? Разумеется, нет, поскольку в таком случае сравнительно-правовые исследования охватывали бы абсолютно всё , распространяясь на любые виды юридической интеллектуальной деятельности, немыслимой без сравнения чего-то с чем-то, что сделало бы само понятие сравнительно-правового исследования совершенно бессмысленным.
Скажем, что такое уголовно-правовая квалификация преступлений, производимая любым правоприменителем? Это, во-первых, «сравнение имеющихся в законодательстве норм с фактическимиобстоятельствами дела» [1, с.68], а во-вторых, сравнение уголовно-правовых норм между собой, так как в процессе квалификации «производится разграничение между признаками смежных составов преступлений» [1, с. 68]. Означает ли это, что любой дознаватель, следователь или судья является компаративистом? В каком-то смысле да, поскольку, как мы видим, нельзя квалифицировать преступле- ние, не произведя каких-то мыслительных сравнительно-правовых операций. Но в чем тогда смысл самого выделения данного научного направления и в чем его автономия?
Или возьмем эксперта, производящего идентификационную дактилоскопическую экспертизу и сравнивающего обнаруженные на месте преступления отпечатки пальцев с отпечатками пальцев какого-то лица. Он также компаративист? Это также сравнительно-правовое исследование? Можно ли тогда привести хоть какой-то пример интеллектуальной юридической (и не только, к слову, юридической) деятельности, где сравнения не было бы вовсе? Сомневаюсь. Это немыслимо потому, что сравнение объектов, понятий, чисел, фактов, конструкций и т. п. есть методологически обязательный признак познания и мышления как таковых, без которого ни то ни другое существовать не может. Скажем, чтение любого текста также предполагает сравнение букв (А, Б, В…), знаков препинания (точка, запятая…) и т. п. Поэтому сравнительно-правовой метод при его буквальном (широком) понимании становится безграничным, а его выделение, следовательно, абсолютно бесполезным. Не случайно, что приведенная мысль В.Н. Кудрявцева о неизбежности сравнения при квалификации преступлений высказана им при анализе «логических форм квалификации» [1, с. 61, 68], а не каких-то ее особых «сравнительно-правовых форм», «сравнительно-исследовательских форм» или чего-то подобного, которые признанный специалист в данной сфере даже не думал обозначать.
Иначе говоря, когда мы сравниваем, причем как в научных, так и в правоприменительных целях, положения об обыске и выемке, грабеже и разбое, о правовом регулировании «до» и «после» той или иной реформы, о развитии того или иного социального явления, о регулировании того или иного вопроса в ГПК и АПК и т. д., то применяем юридико-технический, исторический, социологический, догматический и прочие методы юридического анализа, каждый из которых невозможен без определенных логических операций, в свою очередь, неразрывно связанных со сравнением чего-то с чем-то как неотъемлемым признаком познания и мышления. Мыслительная деятельность по сравнению поглощается в такой ситуации другими методами научного исследования или юридического толкования правовых норм, полностью теряя свою автономию [см. об этом: 2, с. 8–9]. К компаративистике (сравнительному правоведению) как особой области юридических знаний все это никакого отношения не имеет, как не имеет отношения и к сравнительно-правовому методу анализа как методу sui generis.
Выделение последнего приобретает смысл только при появлении внешнего фактора или, по словам Ж. Праделя, фактора географического, когда речь идет о сравнении двух или более правовых объектов (норм, институтов, правовых систем в целом), каждый из которых «имеет свою территориальную сферу применения» [3, p. 2]. Этот французский автор является, к слову, одним из немногих компаративистов, которые отказывались сводить сравнительное правоведение исключительно к сравнительно-правовому анализу права разных государств. Для него существовали «три уровня сравнения: внутри государства, между государствами и между группами государств» [3, p. 3], то есть он допускал, что компаративистика может существовать и в рамках отдельно взятого государства, но, разумеется, не в форме «любых вариантов сравнительного анализа аналогичных, сходных и противоположных правовых институтов внутри одной национальной правовой системы». Такое уважаемому Ж. Праделю даже в голову не могло прийти, поскольку в подобной ситуации сравнительное правоведение становилось бы безразмерным, будучи равно, условно говоря, «интеллектуальному правоведению», «мыслительному правоведению», «аналитическому правоведению» или чему-то подобному. Он имел в виду совершенно другое: наличие федеративных государств (США, Швейцария и др.), где «каждый субъект федерации (штаты, провинции, кантоны…) может иметь свой собственный УПК, а иногда даже УК» [3, p. 2] или любое другое законодательство, если выйти за пределы уголовного и уголовно-процессуального права. Иначе говоря, критерий выделения сравнительно-правового метода иногда позволяет не пересекать границы государства, но всегда остается географическим в том смысле, что применяется для сравнения между теми правовыми нормами или институтами, которые одновременно не действуют и не могут действовать на определенной территории с точки зрения ratione loci, то есть не пересекаются между собой в плане действия закона (нормы, правила) в пространстве. Если же речь идет об одновременно действующих на определенной территории нормах или институтах, разграничиваемых по другому критерию (отраслевому, предметному, персональному и т. д.), то их сравнение между собой сливается с юридико-техническими методами либо поиска применимой правовой нормы de lege lata в правоприменительных целях, либо анализа их оптимального соотношения de lege ferenda в правотворческих целях (нужно ли унифицировать или дифференцировать обыск и выемку, дознание и предварительное следствие, ГПК и АПК и т. п.). Такое сравнение перестает быть сравнительно-правовым в том четком специальном смысле, который и привел к необходимости его методологической автономизации, и поглощается общенаучными или специально научными методами анализа, синтеза, дедукции, индукции, юридической техники и т. п.
Подход Ж. Праделя, считавшего необходимым говорить и о внутреннем сравнении, хотя и остававшемся строго географическим, до сих пор является в значительной мере новаторским. Скажем, Ж. Пикерез, подготовивший в свое время замечательный учебник по швейцарскому уголовному процессу, изданный еще в период действия в каждом кантоне собственного УПК, компаративистом себя не считал и о сравнительно-правовом методе нигде не упоминал, хотя, с точки зрения Ж. Праделя, речь идет именно о сравнительно-правовом труде, ведь каждый уголовно-процессуальный институт анализируется через призму сравнения разнообразных кантональных подходов, их обобщения, классификации [4].
Для большинства классических работ по сравнительному правоведению вовсе не характерно разграничение внутреннего и внешнего сравнения. Обязательным для них является не географический, как у Ж. Праделя, а скорее «международный аспект», в силу чего «словосочетание «сравнительное право» есть не что иное, как сравнение различных правовых систем, существующих в государствах мирового сообщества» [2, с. 9]. Иначе говоря, сравнение бывает только внешним, внутреннее сравне- ние к компаративистике не относится, даже в федеративных государствах, а все различия подходов между правовыми системами субъектов федерации, например, североамериканских штатов, относятся не к сравнительному правоведению, а к сугубо национальной проблеме «конфликта законов» [5, с. 353].
Многие известные авторы, сегодня причисляемые к кругу компаративистов-классиков, обсуждая трудности определения сравнительно-правового метода или предмета сравнительного правоведения, возможность внутреннего сравнения не рассматривали вовсе – для них тот факт, что речь идет исключительно об «использовании иностранного права» [6, с. 37] и никакого другого, причем далеко не всяком использовании [7, с. 87–89], является самоочевидным и не требует никаких доказательств. В этом плане даже Ж. Пра-дель с его более широким подходом, выделяя смежные со сравнительным правоведением дисциплины, относил к ним «чистое» изучение иностранного права, международное право, европейское право и юридическую антропологию, подразумевающую сравнение разных правовых культур и их становление [3, p. 5–9], но не, допустим, конституционное право, хотя при сравнении правовых систем различных штатов США или кантонов Швейцарии без последнего не обойтись. Получается, что его новаторство по «интернизации» сравнительного правоведения является в достаточной мере относительным и на основы все-таки не посягает.
Ясно, что в такой ситуации и при строгом следовании канонам использования сравнительно-правового метода изначальная задумка автора этих строк посвятить свое исследование новейшим реформам суда ассизов во Франции в рамки чистой компаративистики не входит. Но, учитывая, что речь идет об изучении иностранного права, подобная тематика непосредственно граничит со сравнительным правоведением, поскольку, как справедливо отметил А.Х. Саидов, «сугубо страноведческие исследования, не преследующие сравнительно-правовых целей … всегда будут иметь компаративистскую окраску, содержать значительный эмпирический и фактологический материал для дальнейших сравнительно-правовых исследований, прежде всего для сравнения с правовой системой страны компаративиста» [8, с. 15].
«Обязательной предпосылкой» сравнительного правоведения «в собственном смысле слова» называл исследования иностранного права и М. Рейнстайн [7, с. 88]. Как бы то ни было, ясно, что изучение иностранного права, будучи либо элементом, либо предпосылкой сравнительно-правовых исследований stricto sensu , генетически составляют со сравнительным правоведением единое целое (их соотношение можно обсуждать), тогда как отраслевой или межотраслевой «сравнительный» анализ различных положений национального права, независимо от того, проводится ли он в правоприменительных или в доктринальных целях, генетически составляет единое целое с традиционной юридической техникой и не имеет к сравнительному правоведению никакого касательства (их соотношение обсуждать нельзя или можно лишь в том ключе, в каком мы обсуждаем соотношение цвета и веса как категорий, лежащих в разных системах координат).
В заключение нельзя не отметить, что идея редакции журнала «Правовое государство: теория и практика» безмерно расширить понятие сравнительно-правовых исследований имеет одну несомненную пользу: она позволяет вернуться к старому теоретическому спору, посмотрев на него под новым углом зрения и немного переосмыслив. Напомним, что еще с начала ХХ столетия, если не раньше, спор этот конструировался вокруг наличия или отсутствия у сравнительного правоведения собственного предмета. Некоторые выдающиеся авторы считали, что такой предмет есть. Другие полагали, что его нет – сравнительное правоведение есть не более чем метод, который применим к любому правовому предмету, причем данная точка зрения постепенно стала господствующей [3, p. 3–4]. Логика здесь понятна: сравнительно-правовой метод не может касаться только какой-то определенной отрасли права (допустим, гражданского права), постепенно проникнув во все правовые сферы, причем как на «макроуровне», используя выражение того же Ж. Праделя, то есть на уровне правовых систем в целом, так и на «микроуровне» [3, p. 2], то есть на уровне отдельных, даже весьма локальных институтов. Это, конечно, так.
Однако полная беспредметность сравнительного правоведения и сведение его исключительно к методу приводят к искушению выйти за пределы изначального пространства данной дисциплины, священного как для Р. Давида или К. Цвайгерта с Х. Кётцем, так и для Ж. Праделя (при всех различиях понимания ими объема этого пространства, строго говоря, не столь значительных), и распространить соответствующий метод на любые правовые институты и явления, в том числе сугубо национальные. Дескать, если можно сравнивать любые правовые институты и явления с иностранным элементом, то почему их нельзя сравнивать без такого элемента и почему подобное внутреннее сравнение нельзя считать «сравнительно-правовым»? В результате данный метод утрачивает свою специфику и самоуничтожается, сливаясь с юридико-техническим, историческим, да и просто с интеллектуальным методом любого познания.
Поэтому предмет у сравнительного правоведения есть. Другое дело, что он не лежит в плоскости традиционного отраслевого разграничения (гражданское право, уголовное право, уголовно-процессуальное право и др.), находясь в другой системе координат, которую можно назвать пространственной. Как ранее уже отмечено, предметом сравнительного правоведения является исключительно сравнение правовых систем (их элементов), действующих в разных территориальных границах, то есть не подлежащих одновременному применению по территориальному признаку. Как правило, такие границы совпадают с государственными, хотя, как мы видим, здесь возможны варианты, учитывая позицию Ж. Праделя и федеративное устройство некоторых государств, что дает почву для внутреннего сравнения. Будем ли мы считать швейцарский труд, где исследуются правовые подходы, применяемые в разных кантонах, сравнительно-правовым или не будем – это вопрос объема территориального критерия, то есть спор вокруг предмета сравнительного правоведения. Но принципиально он ничего не меняет. Возможно и иное расширение предмета, когда к сравнительному правоведению будет относиться сравнение подходов, применяемых не только в национальном, но и в наднациональном праве (допустим, праве ЕС). Однако здесь также необходимо помнить о критерии территориального разграничения. Скажем, сравнение институтов, действующих в ЕС и в России, безусловно, должно относиться к сравнительно-правовым, поскольку российское и европейское право имеют разные территориальные ареалы действия. Но сравнение права Франции и права ЕС сравнительно-правовым не будет, так как территории действия данных систем совпадают, следовательно, любой анализ их соотношения относится уже к юридико-техническому (соответствие, несоответствие, последствия несоответствия) точно в той же мере, в какой к юридико-техническому относится анализ соответствия российских отраслевых норм конституционным (конституционный контроль).
Как назвать данное измерение предмета сравнительного правоведения? Пространственное? Географическое (как Ж. Пра-дель)? Иностранное или межгосударственное (как большинство компаративистов-классиков)? Трансграничное? Здесь возможно обсуждение. Идет ли речь об особом предмете
Comparative legal research in legal science сравнительного правоведения или об особом элементе, а может быть, о специальном условии применения метода? Здесь также возможно обсуждение. Ясно одно: дихотомии «предмет vs метод», имея в виду под предметом традиционное отраслевое деление, сегодня недостаточно. Нужен триптих, то есть третий элемент, с помощью которого мы будем понимать пространственные пределы действия метода даже в том случае, когда по традиционному предметному критерию таких пределов нет вовсе. Вектор сравнительно-правового метода всегда направлен «вовне», то есть за границы «своей» правовой системы, а не «вовнутрь» этих границ, и в этом делении на «свое право» и «чужое право» и находится тот предметно-пространственный водораздел, который сохраняет специфику данного метода исключительно тогда, когда он направлен на сравнительно-правовое изучение «чужого».
Список литературы О сравнительно-правовом методе и его неверном понимании
- Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. - Москва, 1972. - 352 с. EDN: ZGVREV
- Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. I. Основы / К. Цвайгерт, Х. Кётц. - Москва, 1995. - 479 с.
- Pradel J. Droit pénal comparé /j. Pradel. - 4 éd. - Paris, 2016. - 1116 p.
- Piquerez G. Précis de procédure pénale suisse / G. Piquerez. - Lausanne, 1994. - 607 p.
- Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид. - Москва, 1988. - 496 с.
- Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права / М. Ансель // Очерки сравнительного права: сборник. - Москва, 1981. С. 36-86.
- Рейнстайн М. Предмет и задачи сравнительного правоведения / М. Рейнстайн // Очерки сравнительного права: сборник. - Москва, 1981. - С. 87-103.
- Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира / А.Х. Саидов. - Москва, 1993. - 148 с.