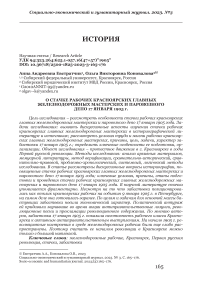О стачке рабочих красноярских главных железнодорожных мастерских и паровозного депо 17 января 1905 г
Автор: Евстратчик Анна Андреевна, Коновалова Ольга Викторовна
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (29), 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - рассмотреть особенности стачки рабочих красноярских главных железнодорожных мастерских и паровозного депо 17 января 1905 года. Задачи исследования: выявить дискуссионные аспекты изучения стачки рабочих красноярских главных железнодорожных мастерских в историографической литературе и источниках; рассмотреть условия труда и жизни рабочих красноярских главных железнодорожных мастерских, причины, цель, задачи, характер забастовки 17 января 1905 г.; определить ключевые особенности ее подготовки, организации. Объект исследования - протестное движение в г. Красноярске в годы Первой русской революции. Методы исследования: анализ архивных материалов, мемуарной литературы, метод верификации, сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, проблемно-хронологический, системный, логический методы исследования. В статье рассмотрены дискуссионные вопросы историографии, посвященные стачке рабочих красноярских главных железнодорожных мастерских и паровозного депо 17 января 1905 года; ключевые условия, причины, этапы подготовки и проведения стачки рабочих красноярских главных железнодорожных мастерских и паровозного депо 17 января 1905 года. В научной литературе стачка упоминается фрагментарно. Несмотря на то что забастовка позиционировалась как отклик красноярских рабочих на события 9 января 1905 г. в Петербурге, на самом деле она готовилась заранее. По целям и задачам для основной массы бастующих забастовка носила экономический характер. Политический антураж ей придавали звучавшие во время акции антиправительственные лозунги, революционные песни и прокламации революционного содержания. По мнению авторов, забастовка 17 января 1905 г. показала неготовность рабочего класса Красноярска к активным антиправительственным выступлениям. На начало 1905 г. революционные настроения в среде железнодорожных рабочих были еще слабо распространены. Поэтому считать ее началом революции в Красноярске можно только с большой натяжкой.
Железнодорожные рабочие, красноярск, первая русская революция, стачка, забастовка
Короткий адрес: https://sciup.org/140301495
IDR: 140301495 | УДК: 94:323.264:625.1-057.16(47+57)"1905" | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-3-165-176
Текст научной статьи О стачке рабочих красноярских главных железнодорожных мастерских и паровозного депо 17 января 1905 г
Протестное движение – одна из ярких форм проявления общественного недовольства. От глубины причин, поро- дивших его, масштаба и последствий, реакции элит зависит развитие исторического процесса в той или иной стране, мире. Рост протестного движения может стать преддверием радикальных потрясений, революций. Одним из ярких примеров трансформации протестного движения в революционное стали события Первой русской революции. Расстрел мирной демонстрации рабочих 9 января 1905 г. привел к росту забастовочного движения по всей стране, в том числе и в таких сибирских городах, как Томск, Иркутск, Красноярск, Чита и др.
Первые работы, в которых рассматривается красноярская забастовка 17 января 1905 г., вышли из-под пера видных партийных деятелей 1920-х гг. Так, в статье члена Центрального исполнительного комитета Советов Сибири (Центроси-бири) А.А. Ансона «1905 год в Красноярске: По архивным материалам и воспоминаниям», опубликованной в 1923 г., подробно описывались предзабастовочные дни, события 17 января [1, c. 115-119]. Главный акцент делался на руководящей роли большевиков в организации стачки. В 1925 г. был опубликован популярный очерк Я. Новогрешнова «1905 год в Красноярске». Автор отмечал, что известие о событии 9 января в Петрограде буквально вызвало «ликование среди многих рабочих Красноярских жел. дор. мастерских» [18, c. 6]. В 1940 г. была опубликована книга И.Г. Зобачева «1905 год в Сибири». Автор пишет, что события 17 января – это забастовка-протест, которая стала точкой отсчета революционных событий в Красноярске [10, c. 12].
В последующий период советские историки при изучении революционных событий 1905 г. в Красноярске главное значение придавали выявлению ведущей роли большевиков в революционных событиях, политическому значению забастовки железнодорожников [5, 6, 7, 13, 19, 21]. В работах постсоветского периода авторы также упоминают о забастовке, как о начале революции 1905-1907 гг. в Красноярске [9, 11, 27].
Несмотря на значительный вклад исследователей советского и постсоветского периодов в изучение Первой русской революции в Красноярске, событий
17 января 1905 г., по нашему мнению, остается актуальным прояснение цели, задач, характера забастовки, изучение процесса ее подготовки, организации и т.п.
Для решения поставленных задач мы опирались на ряд опубликованных источников: сборник документов «1905 год в Красноярске (материалы и документы)» [2], протоколы III съезда РСДРП [22], собрание полного свода законов Российской империи [8], воспоминания членов иркутской организации Сибирского социал-демократического союза Г.И. Крамольникова, оказавшегося в Красноярске в дни забастовки [14] и Н.Н. Баранского [3, c. 26-27], прибывшего на смену ему, а также красноярских революционеров Б.З. Шумяцкого [29, c. 40-42], Г.А. Мучника [17], Я.К. Лесковского [30, 31], С.В. Шкитова [28].
Наряду с опубликованными материалами в работе мы использовали неопубликованные источники - материалы Государственного архива Красноярского края (ГАКК). В переписке Енисейского губернского жандармского управления (ЕГЖУ) с Департаментом полиции содержатся сведения о подготовке к забастовке и демонстрации рабочих главных красноярских железнодорожных мастерских 17 января 1905 г. [24]. Важным источником является дело о забастовке, которое хранится в фонде Красноярского окружного суда, в нем находятся сведения о ходе стачки, показания свидетелей и участников событий [23]. Нами также были использованы сведения, полученные из дела о забастовочном движении в железнодорожных мастерских и депо станции Красноярск 1905 г., хранящегося в фонде начальника Красноярского отделения Томского ЖПУ Сибирской железной дороги [25].
В начале ХХ века Красноярск был одним из динамично развивающихся административных центров Сибири. В 1905 г. в нем проживали 43308 человек, что в 1,6 раза превышало показатели 1897 г. и составляло 54,5 % от всего городского населения губернии и 6 % от общего числа жителей [26, с. 182]. На 1905 г. в городе имелись 88 частных предприятий с числом рабочих 689 человек [15, с. 278-279]. Крупнейшим промышленным предприятием Красноярска, принадлежавшим государству, являлись железнодорожные мастерские и депо. Они обеспечивали ремонт и обслуживание железнодорожных составов. Численность железнодорожных рабочих составляла более 2000 человек. Как отмечает красноярский историк В.И. Федорова, «кадры квалифицированных рабочих мастерских и депо – слесари, токари, литейщики, котельщики – формировались в основном из рабочих Европейской России», а обслуживающий персонал «путевые сторожа, обходчики, кондукторы, истопники, сцепщики» – преимущественно из местных крестьян-отходников [26, с. 214].
И без того тяжелые условия труда рабочих железнодорожных мастерских усугубил пожар 1898 г. Все цеховые здания, расположенные на правом берегу Красноярска, сгорели. Рабочим приходилось работать в бараках небольшими группами. Постройка новых мастерских была начата на левобережье, но затянулась до 1916 г.
К началу 1905 г. функционировал только паровозосборочный цех (введен в эксплуатацию в конце 1904 г.), специально оборудованных цехов (вагонный, котельный, медный, модельный и др.) просто не было [16, c. 7-8]. Условия труда даже в новых мастерских желали быть лучшими: отсутствовала вентиляция, оставалось недостаточным, хотя и было уже электрическим, освещение, преобладал ручной труд. В помещении царили антисанитария, задымленность, были характерны резкие температурные колебания [12, с. 11; 16, c. 8; 21, с. 9].
Продолжительность рабочего дня по Закону от 2 июня 1897 г. «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабричнозаводской промышленности» должна была составлять от 10 до 11,5 часов [8]. Однако, как отмечал станционный врач
Сибирской железной дороги И.П. Михайловский в статье, опубликованной в газете «Вестник Сибирской железной дороги» 3 марта 1905 г., работа в неурочное время становилась практически ежедневной, рабочий день увеличивался до 13-16 часов и более. Отказаться от так называемых «вечеровок» (сверхурочной работы) было нельзя, выполнять рабочим их приходилось, когда прикажет начальство, в том числе ночью, в праздничные и воскресные дни [12, с. 9-10]. Заработная плата назначалась по личному усмотрению мастера и составляла примерно 30-40 копеек в день. Существующая разветвленная система штрафов в мастерских ухудшала и без того тяжелое материальное положение рабочих [16, c. 8].
В Красноярске главным местом жительства железнодорожных рабочих стала Николаевская слобода, находящаяся за вокзалом у подножия Афонтовой горы. Как отмечал И.П. Михайловский, большинство мастеровых жили «в землянках и мазанках, расположенных около мастерских», и только небольшая часть их проживала в казенных и частных квартирах [20, c. 11]. Жилища большинства рабочих это - «хлевы с низким потолком с крошечными окнами и нередко без пола», «окруженные помоями, наземом и проч. отбросами». «В них царят полумрак, сырость и зловоние». Оплата за «комнату (конуру) или угол» составляла от 5 до 15 руб. Современники отмечали, что «в таких антисанитарных условиях вынуждены были жить не только многосемейные и бедные рабочие, но и те, которые готовы заплатить за квартиру в одну-две комнаты 10-15 рублей в месяц». Поскольку «казенных квартир на станции недостаток, а частных, сколько-нибудь удовлетворяющих гигиеническим требованиям, вблизи станции нет» [20, c. 7]. Таким образом, тяжелые условия труда, нехватка казенного жилья, высокая стоимость аренды создавали невыносимые условия для жизни и работы железнодорожных рабочих.
Вполне понятно, как отмечал И.П. Михайловский, что «для улучшения своего положения рабочие красноярских мастерских во время неоднократных забастовок требовали 8-часовой рабочий день, повышенную плату и назначения из своей среды представителя оценки труда» [12, c. 11].
Первая стачка железнодорожников в Красноярске произошла 11 мая 1900 г. Во время следующей 13 сентября 1902 г. полторы тысячи рабочих мастерских вышли на улицы города и потребовали своевременной выдачи заработной платы. Их требования были удовлетворены [26, с. 214]. В 1905 г. застрельщиком рабочего движения в Красноярске снова стали железнодорожники.
Согласно воспоминаниям Г.И. Крамольникова, подготовка к забастовке началась до событий 9 января. Он прибыл в Красноярск совместно с В.Н. Охоцимским от Сибирского социал-демократического союза 7 января. Главной целью их приезда являлась организация всеобщей стачки по Сибирской магистрали под политическими лозунгами «Долой царскую монархию!», «Долой войну!», «Да здравствует Учредительное собрание!» В городе они встретились с М.С. Гутовской, которая была членом подкомитета Красноярской организации РСДРП. Она свела их с лидерами местной социал-демократической организации И.К. Юдиным, А.В. Байкаловым, братьями Семененко и другими, а те в свою очередь устроили им встречу с рабочими в трюме баржи на Енисее 8 января, на которой обсуждалась подготовка к стачке. 9 января на двух летучках уже была утверждена забастовочная кампания [23, л. 122]. Таким образом, первоначально подготовка забастовки железнодорожников в Красноярске не была связана с расстрелом демонстрации рабочих 9 января в Петербурге. Только вечером 10 января, узнав о произошедшем в Петербурге, Г.И. Крамольников подготовил прокламацию «В России революция» [14, c. 39-40]. В ней говорилось о восстании рабочих в Петербурге, неспособности властей справиться с ситуацией, падении доверии народа к царской власти; отмечалось, что столичное население поддержало пролетариат; содержался призыв к сибирякам объявить стачку, останавливать поезда.
Впоследствии, выступая на 6 заседании III съезда РСДРП (б) в Лондоне в 1905 г., Крамольников так характеризовал подготовку красноярской забастовки: «Вы посмотрели бы, с какой радостью встречена была рабочими мысль о стачке как о средстве показать правительству, что народ против войны, что рабочие бастуют потому, что не желают везти своих братьев-солдат на бойню» [22, c. 125].
Видимо для того, чтобы эта радость была более ощутимой среди рабочих, стали распространятся слухи о возможной материальной поддержке забастовщиков. Так, часть рабочих, давая впоследствии показания по делу о забастовке, утверждали, что слышали о том, что на подготовку стачки были выделены деньги в размере от 15 до 20 тыс. рублей от генерального штаба социал-демократической партии [23, л. 118, 119, 124, 148].
В постановлении № 2 военного следователя по полосе отчуждения Сибирской магистрали полковника барона Остен-Сакена также отмечалось, что А.А. Аргудяев, «побуждая рабочих бросить работу, упоминал о собранных и имеющихся в его распоряжении деньгах для поддержки забастовщиков» [23, л. 184]. Хотя точных данных о собранных для поддержки забастовщиков средств нет, тем не менее рабочие разных цехов называли примерно одинаковую сумму. Поэтому можно говорить, что даже если деньги не были выделены, то слух этот активно распространялся в рабочей среде очевидно с той целью, как сказал рабочий А.М. Стебаков, «чтобы никто не боялся стачки, так как на стачку прислано рабочим 15 тысяч » [23, л . 148].
Возможно, слух о сборе денег был связан с событиями 12 января, когда в рамках банкетной кампании состоялось собрание местной интеллигенции в доме А.П. Кузнецовой во главе с городским головой Н.А. Шепетковским. Формально оно было посвящено 150-летию Московского государственного университета (МГУ), но фактически на нем обсуждались события, произошедшие в Петербурге, и даже было предложено собрать финансовую помощь семьям пострадавших.
В разгар этого собрания, по словам очевидцев, появился представитель социал-демократической партии и утверждал о готовящейся забастовке [23, л. 72, 76, 91, 285]. Б.З. Шумяцкий в своих воспоминаниях писал, что это был прибывший с Г.Н. Крамольниковым член Сибирского социал-демократического союза В.Н. Охацимский [29, c. 42]. Однако красноярский революционер Г.А. Мучник вспоминает, что на собрание либералов от партии был послан М.К. Ветошкин [17, c. 13].
В донесении начальника Красноярского отдела жандармского полицейского управления Сибирской железной дороги ротмистра Митаревского от 9 февраля 1905 г. упоминалось, что на данном собрании во время спора начальника 15-го участка службы пути инженера Д.К. Нюберга с одним из социал-демократов об особенностях рабочего движения в России жена первого предложила собрать деньги в помощь забастовщикам [25, л. 65]. По сообщению одного из свидетелей, деньги эти не были собраны [23, л. 285].
Однако член Сибирского социал-демократического союза Н.Н. Баранский по этому поводу в своих воспоминаниях писал, что собравшиеся «не только набросали денег целую шапку, но один из инженеров согласился даже предоставить свою квартиру для печатания листков» [3, с. 27].
Г.А. Мучник также вспоминал, что на банкете было собрано 200 рублей наличными и еще 500 по подписным листам, которые позже были внесены полностью [17, c. 13-14].
Началась забастовка рабочих Красноярских железнодорожных мастерских и депо 17 января в 2 часа дня, но, как указывал один из рабочих на допросе по этому делу, «забастовка предполагалась утром, но сорвалась, так как рабочие в большинстве сомневались в целесообразности ее» [23, л. 69].
В 2 часа дня рабочие оставили рабочие места, вышли из мастерских и двинулись в сторону станции и депо. Однако, когда путь им преградили станционный патруль из 3-го сибирского запасного батальона и дежурная часть от 1-й роты 23 дружины государственного ополчения, они вынуждены были остановиться и решили направиться к губернаторскому дому [25, л. 62]. Руководителем Енисейской губернии в это время был отставной военный, 64-летний генерал-лейтенант Н.А. Айгустов [4, с. 45, 46].
Дойдя до Ново-Базарной площади, забастовщики остановились напротив магазина галантерейных товаров купца И.Т. Савельева, где организовали митинг, на котором А.А. Аргудяев и другие ораторы выступили с противоправительственными речами [1, с. 117]. Была зачитана прокламация «К рабочим мастерских и депо гор. Красноярска», подготовленная Красноярским комитетом Сибирского союза Российской социал-демократической рабочей партии. После выступления восторженная толпа подкидывала оратора на руках [23, л. 23, 25, 283]. Затем рабочие двинулись в центр города по Воскресенской улице (просп. Мира) к квартире губернатора. Возле Покровского переулка (ул. Сурикова) толпа разбилась на мелкие группы. В Покровском переулке рабочих остановили казаки, встав шеренгой поперек улицы в плотно сомкнутом строю. В воспоминаниях Г.А. Мучника утверждалось, что рабочим удалось подойти к губернаторскому дому [17, c. 15]. Авторы коллективной монографии «Традиции зовут вперед» также полагают, что толпа смогла прорваться через казаков у Покровского переулка и дойти до губернаторского дома [21, c. 27]. Вместе с тем в дру- гих источниках утверждалось, что Н.А. Айгустов находился в Губернском правлении, и толпа не смогла пройти через Покровский переулок к губернаторскому дому из-за преградивших ей дорогу казаков.
Далее часть демонстрантов разошлась [1, c. 117], а те, кто остались, узнали от полицейских чинов, сопровождавших демонстрацию, что губернатор находился в Губернском управлении, расположенном в Театральном переулке (ул. Кирова) в доме Н.Г. Гадалова. Толпа, не поверив этим сведениям сразу, простояла на мосту еще целый час, а после повернула назад и пошла к зданию, где располагалось Губернское управление. Здание было оцеплено войсками. К собравшимся вышел губернатор, рабочие передали ему свои требования. О том, как прошла встреча с губернатором, в источниках остались противоречивые сведения.
Версия 1. Рабочим удалось устно озвучить губернатору свои требования. Она имеет 3 интерпретации. По воспоминаниям Б.З. Шумяцкого, лидеры забастовщиков А.А. Аргудяев и М.Т. Маслов мужественно и решительно озвучили губернатору экономические и политические требования рабочих. Н.А. Айгустов, по его словам, что-то «мямлил» в ответ [29, с. 41-42]. А.А. Ансон в своей статье писал, что выступал перед губернатором только М.Т. Маслов, так как А.А. Аргудяев во избежание ареста был посажен на извозчика и отправлен на квартиру [1, с. 117-118]. Начальник жандармского полицейского управления Сибирской железной дороги ротмистр Митаревский утверждал, что унтер-офицер Авдонькин заявил ему, что перед губернатором выступал рабочий С.Г. Галат [25, л. 160].
Версия 2. Рабочие подали губернатору свои требования в письменном виде. В сборнике документов К. Абросенко представлен письменный доклад мастеровых и рабочих красноярских Главных железнодорожных мастерских и депо енисейскому губернатору с описанием исключительно экономических требова- ний, датированный 18 января [2, с. 15-16]. В то время как Я. Новогрешнов пишет, что рабочие вручили требования Н.А. Айгустову 17 числа [18, с. 7]. О том, что рабочими были поданы письменные требования к губернатору, вспоминал также Г.А. Мучник. Он доказывал, что произнести речь перед губернатором никому не дали.
По нашему мнению, более достоверно выглядит информация вахмистра дополнительного штата ЕГЖУ И.Е. Овсянникова. Он вспоминал, что навстречу рабочим вышел начальник губернии и обратился с вопросом «Что вы хотите?» «Призвал создать депутацию. Ее не выбрали, но начал говорить Михаил Маслов, он предъявил требования: 1) рабочие требуют денег на наем квартир по примеру Забайкальской ж.д. 2) прибавку расценочной платы до 20 %. 3) 8-часовой рабочий день. Начальник губернии обещал рабочим сделать все, что будет с его стороны возможным. Рабочие стали расходиться без шума» [23, л. 25]. На Новобазарной площади, со слов И.Е. Овсянникова, опять собралось около 100 человек, которые решили не выходить на работу до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования, однако и они потом разошлись [23, л. 168].
18 января забастовка фактически была продолжена, так как большое количество людей не вышли на работу, несмотря на то, что демонстрации уже не устраивалось. В литературе и большевистских воспоминаниях говорится о том, что стачка была окончена только 20 января [18, c. 7; 1, c. 118; 27, c. 69; 10, c. 17; 21, с. 27; 28, c. 106]. Красноярский революционер Я.К. Лесковский в своих воспоминаниях, уделяя этому вопросу подробное внимание, писал, что утром 18 января на работу вышла лишь небольшая часть рабочих. После агитации И.И. Андрианова работа была остановлена, а возобновлена только после обеда, но вновь прекращена в 3 часа дня 19 января. Со слов Я.К. Лесковского, работа была возобновлена, хотя и в неполном присутствии рабочих [31].
По свидетельству сотрудников правоохранительных органов и некоторых рабочих, 18 января группа около 15 человек во главе с токарем И.И. Андриановым подстрекала бросать работу, после чего рабочие токарного и вагонного цеха действительно ушли из мастерских, а также частично прекратили работу в других цехах [23, л. 2, 3, 73; 24, л. 62]. Несмотря на то что работа 18 января в цехах и депо не останавливалась, однако количество рабочих было вдвое меньше обычного [25, л. 63]. Мастер вагонного цеха Г.А. Савицкий утверждал, что 18 числа рабочие боялись работать и просили его об охране [23, л. 76], а один из рабочих говорил, что утром в мастерских прошел слух, что работать опасно, так как за это могут избить [23, л. 257].
Начальник ЕГЖУ подполковник Козинцев 19 января так докладывал в департамент полиции: «17-го числа забастовали рабочие всех цехов, а депо работало. Вечером же забастовали и рабочие депо. Утром 18-го в цехах не работали, а в день вышли на работу половина рабочих. 19 числа на работу вышла большая часть рабочих всех цехов» [24, л. 5]. 19 января у всех выходных дверей отдельных корпусов мастерских, в проходных будках и внутри всех цехов были выставлены посты; кроме того, ко времени начала работ, в часы ухода рабочих на обед, возвращения их обратно, а также во время расхода по окончании работ домой, по направлениям обычного прохода рабочих посылались мелкие патрули для предотвращения возможного подстрекательства и агитации в пользу продолжения забастовки.
20 января ротмистр Митаревский докладывал начальнику воинской охраны Грицевичу: «Забастовка окончилась, к работам приступили все. За спокойствие до конца месяца все-таки не ручаюсь». 9 февраля он писал начальнику жандармского полицейского управления Сибирской железной дороги: «20 января на работы вышли как в мастерских, так и в депо все рабочие, за исключением обычного процента не выходящих и при спокойном нормальном положении, так что этот день можно считать днем окончания забастовки» [25, л. 11, 64]. Вместе с тем 20 января были единичные случаи нарушения порядка в мастерских. Так, токарь В.Г. Рогов пытался остановить цеховую машину, за что бригадир вагонного цеха К. Педер попросил мастера токарного цеха удалить его из мастерских, а также кочегар Оржеповский распространял прокламации и подстрекал к забастовке [24, л. 9]. Так что забастовка красноярских железнодорожников началась с обеда 17 января и продолжалась до 19 января .
Дискуссионным остается вопрос о характере стачки. Стремление социал-демократов придать ей исключительно политический характер понятно, но можно ли ее считать таковой на самом деле? Как писал в своих воспоминаниях Б.З. Шумяцкий [29, c. 40], поднять стачку только по политическим требованиям в Красноярске действительно не удалось. Монтер токарного цеха Г.В. Козлов, давая показания по делу о забастовке, отмечал, что «рабочие всегда недовольны, если к их требованиям присоединяют политику. Если бы рабочим объявил кто-либо во всеуслышание, что толпа имеет в виду какие-либо политические вопросы, то я думаю, никто не пошел бы» [23, л. 281].
Агент Сибирского социал-демократического союза Н.Н. Баранский в своих воспоминаниях также писал: «В красноярских мастерских и депо было в то время, наверное, до 3000 рабочих, но к политической забастовке из них готово было не более полутораста человек. Недовольство остальных не выходило из рамок чисто "экономического характера" - задержка в выдаче мобилизационных и т.п.» [3, c. 26]. Г.А. Мучник тоже утверждал, что «рабочие в своей массе выдвигали почти исключительно экономические требования». «Пришлось положить немало сил, чтобы придать этим требованиям политическое оформление», -вспоминал он, а предложение о проведе- нии вооруженной забастовки, с его слов, не встретило широкого отклика, потому как большинство считало, что демонстрация должна быть мирной [17, c. 14]. Другой участник революционного движения 1905 г. в Красноярске Я.К. Лесковский констатировал, что значительная часть железнодорожников была настроена против забастовки [30]. С.В. Шкитов вcпоминал: «17 января рабочие мастерских и депо, недовольные низкой оплатой труда и 10-часовым рабочим днем, бросив работу, в количестве до тысячи человек двинулись в центр города к дому губернатора, чтобы предъявить ряд требований экономического характера» [28, c. 106].
В историографической литературе исследователи также обращают внимание на экономический характер звучавших требований рабочих. Так, Я. Новогрешнов в своем очерке о событиях в Красноярске в 1905 г. писал, что «рабочие направились к дому губернатора с целью предъявить ему ряд требований экономического характера» [18, c. 6]. Авторы коллективной монографии «Традиции зовут вперед» описывают еще более обширные требования рабочих: введение 8-часового рабочего дня, повышение расценок на оплату труда, ограждение личности рабочих от надругательств полиции и об уплате за дни забастовки [21]. В.П. Зиновьев в своей работе «Рабочее движение в Сибири» констатировал, что демонстрация рабочих к дому губернатора была организована с целью предъявления требований 8-часового рабочего дня, повышения расценок на 20 %, увеличения квартирных денег [9, c. 56].
Таким образом, детально проанализировав события 17 января 1905 г. в Красноярске, можно сделать следующие выводы. Данному событию не посвяща- лись специальные исследования. В научной литературе оно упоминается достаточно фрагментарно, в основном дублируя информацию, описанную в воспоминаниях большевиков, принимавших участие в революционных событиях в Красноярске в 1905 г. Несмотря на то что забастовка позиционировалась как отклик красноярских рабочих на события 9 января 1905 г. в Петербурге, на самом деле она готовилась заранее Сибирским союзом социал-демократической партии, а расстрел демонстрации петербургских рабочих использовался организаторами как повод для начала стачки. По целям и задачам для основной массы бастующих забастовка 17 января носила экономический характер. Основная масса участников вышла на демонстрацию, преследуя исключительно экономические требования. Вместе с тем, благодаря стараниям социал-демократов, она получила «политическое оформление». Политический антураж ей придавали звучавшие во время акции антиправительственные лозунги, революционные песни и прокламации революционного содержания.
В целом можно сказать, что забастовка 17 января 1905 г. показала неготовность рабочего класса Красноярска к активным антиправительственным выступлениям. На начало 1905 г. революционные настроения в среде железнодорожных рабочих были еще слабо распространены. Главной целью забастовки для большинства участников были экономические, а не политические требования. Даже активная агитаторская деятельность, а возможно и спонсирование со стороны РСДРП, не помогло поднять значительную массу железнодорожников на антиправительственную стачку. Поэтому считать ее началом революции в Красноярске можно только с большой натяжкой.
Список литературы О стачке рабочих красноярских главных железнодорожных мастерских и паровозного депо 17 января 1905 г
- Ансон А.А. 1905 год в Красноярске: По архивным материалам и воспоминаниям // Сибирские огни: художественно-литературный и научно-публицистический журнал. 1923. № 4. С. 112−126.
- Абросенко К. 1905 год в Красноярске (материалы и документы). Красноярск: Краснояр. краевое изд-во, 1941. 188 с.
- Баранский Н.Н. В рядах сибирского социал-демократического союза (Воспоминания о подпольной работе 1897−1908 гг.). Новониколаевск: Сиб. обл. гос. изд-во, 1923. 89 с.
- Верхотурова Т.Г. Социальный портрет енисейских губернаторов // Наука и современность. 2010. № 1-1. С. 123−128.
- Ветошкин М.К. Очерки по истории большевистских организаций и революционного движения в Сибири. 1898−1907 гг. М.: Госполитиздат, 1953. 308 с.
- Груш Д.Б. Большевики Красноярска в годы Первой русской революции. Красноярск: Кн. изд-во, 1955. 120 с.
- Дулов В.И., Кудрявцев Ф.А. Революционное движение в Восточной Сибири в 1905−1907 гг. Иркутск: Иркут. кн. изд-во, 1955. 192 с.
- Закон от 2 июня 1897 г. «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности» // Полное собрание законов Российской империи. 1900. Т. 17. № 14231. С. 355.
- Зиновьев В.П. Рабочее движение в Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. Т. 2. 376 с.
- Зобачев И.Г. 1905 год в Сибири. Новосибирск: Обл. гос. изд-во, 1940. 64 с.
- Быконя Г.Ф., Федорова В.И., Безруких В.А. Иллюстрированная история Красноярья (XVI − начало XX века). Красноярск: РАСТР, 2012. 239 с.
- К вопросу о санитарно-экономическом состоянии заболеваемости и смертности линейных служащих на Сибирской железной дороге // Вестник Сибирской железной дороги. 1905. № 7 (3 марта). С. 7−12.
- Коняев А.Т. Большевики во главе всеобщей октябрьской политической стачки 1905 года в Сибири // 50 лет Первой русской революции: мат-лы науч. конф. Томск, 1958. 173 с.
- Крамольников Г.И. Десять дней в Красноярске в январе 1905 года // 1905 год в Сибири: cб. статей и воспоминаний. Новониколаевск: Сибкрайиздат, 1925. С. 39−47.
- Красноярск: от прошлого к будущему: Очерки истории города /под ред. Г.Ф. Быкони, В.В. Куимова, П.И. Пимашкова [и др.]. Красноярск, 2013. 640 с.
- Красноярский электровагоноремонтный завод: Век истории: общественно-политическая литература / под ред. В.Д. Сухих. Красноярск: Офсет, 1998. 176 с.
- Мучник Г.А. Двадцать лет партийной работы в Сибири и на Дальнем Востоке. М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1935. 200 с.
- Новогрешнов Я. 1905 год в Красноярске: популярный очерк. Красноярск, 1925. 63 с.
- Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС (1895–1980 гг.) Т. 1: Большевики во главе трех революций и гражданской войны за власть Советов (с 90-х годов XIX века до 1920 года) / под ред. Н.П. Силковой. Красноярск: Кн. изд-во, 1967. 403 с.
- По поводу квартирного вопроса на Сибир. жел. дороге // Вестник Сибирской железной дороги. 1905. № 4. С. 7−8.
- Традиции зовут вперед. Из истории ордена Трудового Красного Знамени Красноярского паровозовагоноремонтного завода – старейшего предприятия Красноярского края / гл. ред. Д.Б. Груш. Красноярск: Краснояр. кн. изд-во, 1965. 308 с.
- Третий съезд РСДРП. Апрель-май 1905 года. Протоколы / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М., 1959. 782 с.
- ГАКК (Государственный архив Красноярского края). Ф. 42. Оп. 3. Д. 260. 360 л.
- ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 48. 41 л.
- ГАКК. Ф. 832. Оп. 1. Д. 42. 264 л.
- Федорова В.И. Локальная история: теория, методы исследования и их применение в образовательной практике: учеб. пособие. Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2018. 360 с.
- Шиловский М.В. Первая русская революция. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 320 с.
- Шкитов С.В. Железнодорожные рабочие Красноярска в 1905 году / 1905 год в Сибири: cб. статей и воспоминаний. Новониколаевск: Сибкрайиздат, 1925. С. 106−111.
- Шумяцкий Б.З. Сибирь на путях к Октябрю. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1989. 416 с.
- Лесковский Я.К. Январские дни 1905 года в Красноярске // Красноярский рабочий. 1925. № 24. С. 3.
- Лесковский Я.К. Январские дни 1905 года в Красноярске // Красноярский рабочий. 1925. № 25. С. 4.