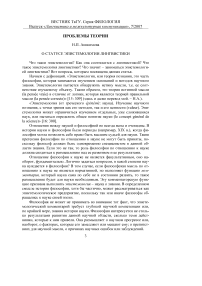О статусе эпистемологии лингвистики
Автор: Анисимова Наталья Петровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120454
IDR: 146120454
Текст статьи О статусе эпистемологии лингвистики
О СТАТУСЕ ЭПИСТЕМОЛОГИИ ЛИНГВИСТИКИ
Что такое эпистемология? Как она соотносится с лингвистикой? Что такое эпистемология лингвистики? Что значит – заниматься эпистемологией лингвистики? Вот вопросы, которым посвящена данная статья.
Начнем с дефиниций. «Эпистемология, или теория познания, это часть философии, которая занимается изучением оснований и методов научного знания. Эпистемология пытается обнаружить истину мысли, т.е. ее соответствие изучаемому объекту. Таким образом, это теория истинной мысли (la pensée vraie) в отличие от логики, которая является теорией правильной мысли (la pensée correcte)» [15: 309] (здесь и далее перевод мой. – Н.А.).
«Эпистемология (от греческого épistémè : наука). Изучение научного познания, с точки зрения как его методов, так и его ценности (valeur). Эпистемология может ограничиться изучением отдельных, уже сложившихся наук, или пытаться определить общее понятие науки (le concept général de la science)» [16: 300].
Отношения между наукой и философией не всегда ясны и очевидны. В истории науки и философии были периоды (например, XIX в.), когда философия могла позволить себе право быть высшим судьей для науки. Такие претензии философии по отношению к науке не могут быть приняты, поскольку философ должен быть одновременно специалистом в данной области знания. Если это не так, то роль философии по отношению к науке должна сводиться к размышлению над ее развитием и ее результатами.
Отношение философии к науке не является факультативным, оно наоборот, фундаментально. Логично задаться вопросом, в какой степени наука нуждается в философии? В том случае, если философская мысль по отношению к науке не является нормативной, но выполняет функцию комментария, который наука сама по себе не в состоянии развить, то такое размышление будет для науки необходимым. Эту комментаторскую функцию призвана выполнять эпистемология – наука о знании. В определенном смысле история философии, хотя бы частично, может рассматриваться как эпистемологическое предприятие, поскольку так или иначе философы обращались к науке своей эпохи.
Философия не может не принимать во внимание тот факт, что эпистемологический комментарий требует глубокой научной компетенции или, по крайней мере, знания истории науки. Философия интересуется не столько результатами развития данной научной области, сколько теми действиями, которые к ним привели. Она размышляет о научном прогрессе или, наоборот, о факторах, которые его замедляют или мешают ему; о препятствиях для научной мысли, о причинах научных ошибок или заблуждений.
Наконец, философия обращается к последствиям научного прогресса, будь они технического или общего характера, поскольку он (прогресс) влияет на культуру, заставляет пересматривать взгляды на явления, менять систему ценностей, подвергать сомнению старые убеждения. Роль философии заключается в попытке понять и интерпретировать такие потрясения [16: 148–149].
С середины XX в. эпистемологическими проблемами науки начинают заниматься не только философы, но и сами представители разных наук. Во Франции исследования такого рода впервые предпринимаются по отношению к гуманитарным наукам. В период расцвета структурализма, когда базовая модель бинарных оппозиций, происходящая из лингвистики, применяется к исследованиям других областей гуманитарного знания, появляются первые работы, посвященные эпистемологии этих научных дисциплин. Для этнологии, или как ее называл сам автор – структурной антропологии, – это работы Клода Леви-Стросса, который первым применил структуралистскую модель для данной научной области. Луи Альтюссер и его последователи развивали эпистемологическую теорию Томаса Куна, разработанную изначально для математики, в применении к историческому материализму. Для психоанализа следует обратиться к работам Жака Лакана. Несмотря на то, что попытка применения теории научных революций к эволюции гуманитарного знания впоследствии была признана несостоятельной, эти исследования дали значительный импульс для размышлений эпистемологического характера для отдельных дисциплин.
Структуралистский период развития интеллектуальной мысли во Франции отмечен особым вниманием к вопросам истории и эпистемологии лингвистики. Привилегированное положение этой дисциплины объясняется частично тем, что язык рассматривался как макро-семиотическая система, включающая в себя частные семиотики, описание которых может быть проведено в виде анализа дискурса о них (исследование Р. Барта о моде). Эта точка зрения превалирует в исследованиях Парижской семиотической школы (А.-Ж. Греймас).
В 1978 г. в Париже создается «Общество истории и эпистемологии наук о языке» (Societe d’Histoire et d’Epistemologie des Sciences du Langage), издающего с 1979 года регулярный специализированный журнал «История Эпистемология Язык» (Histoire Epistemologie Langage). За почти тридцатилетнюю историю существования этого научного общества его члены внесли значительный вклад в описание и анализ как национальных лингвистических традиций (арабской [18], французской [20], греческой [24], английской [25], испанской [27], русской и советской [32]), так и наиболее актуальных проблем современной лингвистики (эллипсис [17; 21], логическая семантика [22], логика и грамматика [19; 23], теория высказывания [26], когнитивная лингвистика [28; 30], эпистемология лингвистики [29], история семантики [31]). Важным событием в деятельности Лаборатории истории и эпистемологии лингвистики (Университет Париж–7) стал выход в свет коллективной монографии-описания и анализа истории лингвистических идей под редакцией С. Ору [5; 7] (см. аналитические обзоры [2; 3]). В этих публикациях определены основные принципы историкоэпистемологического описания лингвистических идей, которые в дальнейшем получили свое развитие в ряде работ С. Ору [6; 8–15]. Основные постулаты его теории состоят в необходимости выработки нейтральной позиции при анализе лингвистических теорий, в отказе от поисков «прогресса» в эволюции лингвистики и гуманитарных (не-экспериментальных) наук, в соотносимости (сопоставимости) лингвистического знания, выработанного в разные эпохи и в разных национальных традициях («умеренный историзм» или «умеренный релятивизм»), в «феноменологическом» определении предмета исследований – знания о языке.
Исходным положением такого рода исследований является мысль о том, что эпистемологическое осмысление научной дисциплины возможно только на базе анализа исторических данных, т.е. теоретических построений, накопленных ею за период ее существования. При этом выявляется целый ряд проблем лингвистики как науки: вопросы, касающиеся ее связей с философией, другими дисциплинами; причин и механизмов возникновения и смены научных парадигм; сущности нашего знания о языке; распределения центров интереса между дисциплинами, выбора способов и методов исследования; связей между наукой и ее объектом и мн. др. Частично эти вопросы разработаны общей теорией языкознания, однако их комплексное решение – это задача эпистемологии лингвистики как части философии, призванной произвести внутренний анализ условий и результатов получения знания, относящегося к данной научной дисциплине.
Комплексное историко-эпистемологическое исследование определенного фрагмента лингвистического знания может и должно быть произведено лингвистом, поскольку для такого анализа необходимо знать предмет исследования «изнутри». «Двойная» обработка данных – историческое описание содержания теорий и дальнейший эпистемологический анализ – позволяет сделать выводы о статусе и отличительных характеристиках как отдельных теорий, так и национальной лингвистической традиции в целом.
Нами была предпринята попытка такого исследования по отношению к французским лингвистическим теориям XX в. [1]. Исходя из принципов построения историко-эпистемологического исследования (supra), мы столкнулись с необходимостью: а) разработки концептуальной модели такого описания; б) придания анализу глубины во времени, т.е. учета исторической эволюции лингвистической мысли. Так или иначе, при построении модели эпистемологических координат приходится претендовать на некоторую универсальность, применимость данной модели к анализу не только французских лингвистических теорий по следующим причинам: (1) обоснованием для выделения виртуальных центров интереса лингвистики служит тезис о том, что проблема знака и его значения лежит в основе всякой лингвистической теории [13: 79–123]; (2) следовательно, выделение обще- теоретических рубрик проводилось на основе этого глобального принципа [1: 40–45]; (3) эволюция научных парадигм в европейской лингвистической традиции является общей для всех «участников процесса»; (4) после выявления центров исследований и изменения интереса к ним в ходе исторической смены научных парадигм начинается этап собственно анализа особенностей эволюции лингвистической мысли как по отношению к отдельным теориям, так и в рамках национальной лингвистической традиции (первый этап анализа приводит к построению характеристики второго).
В результате анализа по пунктам (1) и (2) были выделены следующие аспекты языкового феномена, составляющие виртуальный полюс эпистемологической системы координат (список остается открытым): происхождение языка, эволюция языка, язык и мир (проблемы номинации), язык и мышление, внутренняя организация языка, язык как знаковая система, языковые универсалии, язык и общество, язык и психология, язык как основное средство коммуникации. Пункт (3) не предполагает, однако, автоматического признания того, что та или иная национальная лингвистическая традиция с необходимостью отражает все этапы становления теории языка: ее историко-эпистемологический анализ призван выявить особенности хода эволюции лингвистической мысли, основываясь на материале лингвистических теорий, которые ее представляют.
Приведем пример анализа историко-эпистемологического характера для уровня научной парадигмы в лингвистике в рамках модели эпистемологической системы координат. Научные парадигмы понимаются здесь как доминирующие в ту или иную эпоху направления теоретических исследований, определяющие центры их интереса и методы их изучения. Иными словами, в рамках каждой научной парадигмы существует ряд проблематик (под данным термином понимается совокупность проблем, подведенных под общую рубрику), составляющих исследовательскую доминанту в определенный исторический период. Этой доминанте соответствуют определенные методы исследования.
Мы полагаем, что анализ эволюции теоретических парадигм в европейской лингвистике может начинаться с теоретической модели рациональных или философских грамматик, восходящих к грамматике Пор-Руаяля (в отличие от более распространенного мнения о том, что теоретическая лингвистика как самостоятельная научная дисциплина возникает при становлении сравнительно-исторического языкознания). Эта теория господствовала более столетия во Франции, ее идеи были не чужды и первым российским языковедам. Хронологически на смену этой парадигме приходит сравнительно-историческое языкознание, а затем структурализм. Можно схематически представить основные характеристики этих теоретических парадигм с точки зрения общелингвистической проблематики, определяющей их центры интереса и выбора методов исследования (см. таблицу).
Таблица
|
Теоретическая парадигма |
Центры интереса |
Методы исследования |
|
Рациональная грамматика |
|
По преимуществу синхронические, основанные на логическом подходе |
|
Сравнительноисторическое языкознание |
- язык – психология |
Диахронические сопоставительные методы |
|
Структурализм |
|
Строго синхронические методы системных оппозиций |
Как можно прокомментировать эту таблицу? Прежде всего, мы видим, что каждая отдельная парадигма «интересуется» лишь определенными гранями языкового феномена, пренебрегая остальными, или оставляя их «в забвении». Для изучения актуальных для данной парадигмы центров интереса вырабатываются методы, которые наиболее адекватны для их анализа. Так, если сравнительно-историческое языкознание занимается преимущественно вопросами происхождения и эволюции языка, то им соответствуют методы сопоставительной диахронии. Структурализм, провозглашая приоритет синхронной лингвистики, интересуясь, прежде всего, внутренним строением языка, применяет строгие методы системных оппозиций.
Наблюдения над сменой научных парадигм приводят к еще одному выводу, внешне очевидному, но наиболее явственно предстающему именно при таком сопоставлении. Оказывается, что в отношении выбора центров интереса и методов каждая новая парадигма «отрицает» предыдущую. Происходит радикальное изменение исследовательского поля, что позволяет предположить наличие непреодолимых разрывов между парадигмами. Однако, если сопоставить центры интереса рациональной грамматики и структурализма, то можно увидеть, что они почти идентичны. Неслучайны, по-видимому, упреки в адрес Ф. де Соссюра в том, что он возвращается к проблематике общих грамматик. Таким образом, теория о спиралеобразном развитии подтверждается и для эволюции лингвистических идей.
Все эти наблюдения позволяют объяснить механизм смены научных парадигм следующим образом. Нам представляется, что в период доминирования определенной научной парадигмы ученые, работающие в ее рамках, на определенном этапе видят ее перспективы и потенциальные возможности и таким образом развивают ее. Но поскольку каждая отдельная парадигма «работает» лишь в своем определенном направлении, поневоле оказываются в забвении другие аспекты языкового феномена. Это приводит к положению, когда данная парадигма оказывается неспособной ответить на все увеличивающееся число вопросов, касающихся тех «забытых» сторон языкового феномена, на которые она ответить не в состоянии. Когда эти вопросы достигают некой «критической массы», центр интереса лингвистики начинает смещаться в ту сторону, где этих вопросов без ответов оказывается больше. Реально это проявляется в том, что внутренняя интеллектуальная неудовлетворенность положением дел в данной области науки побуждает ученого (или ученых – тезис об идеях, «летающих в воздухе», не просто метафора) переориентироваться на новую проблематику и, таким образом, инициировать смену научной парадигмы. Такое видение смены научных парадигм в области гуманитарных наук согласуется с диалектическим законом перехода количества в качество. Кроме того, здесь применим и закон отрицания отрицания: новая парадигма, «отрицая» предыдущую, вовсе не уничтожает ее, но оставляет ее in potentia до тех пор, пока новый виток эпистемологической спирали не актуализирует ее проблематику на базе новых достижений науки.
Такое видение механизма смены теоретических парадигм подтверждается анализом перехода от сравнительно-исторического языкознания к структурализму в начале XX в. во Франции [1] и в России [4].
Это лишь один пример того, что историко-эпистемологический подход может дать для понимания законов эволюции лингвистической мысли. Эпистемология лингвистики призвана помочь в осознании статуса лингвистики как научной дисциплины, самоидентификации составляющих ее частей, понимании сущности работы лингвиста. Таким образом, она является относительно новым, но необходимым элементом теории языка.
307 p.