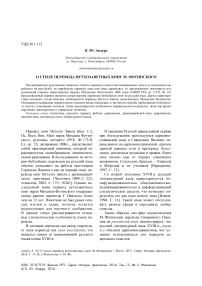О стиле перевода ветхозаветных книг М. Фотинского
Автор: Андерс Кристина Юрьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается рукописный памятник «Опытъ перевода точнаго ветхосвященныхъ книгъ из подлиннаго еврейского на россiйскiй, по еврейскому переводу какъ они самы переводятъ, съ приложениемъ некоторыхъ ихъ изъяснений учиненъ наместникомъ iереемъ Мiхаиломъ Фотiнскимъ 1806 года» (НИОР РГБ, ф. 173/II, № 12). Представленный перевод является самым ранним переводом библейских книг на русский язык. Дается характеристика основных стилистических особенностей перевода Ветхого Завета, выполненного Михаилом Фотинским. Описывается выбранная переводчиком стилистическая концепция, в частности способы приближения библейского текста к пониманию читателя. Также анализируются особенности переводческого идиолекта, такие как архаизирующие, просторечные и украинские элементы.
Стилистика, идиолект, перевод, библия, украинизмы, древнееврейский язык, церковнославянский язык, история русского литературного языка
Короткий адрес: https://sciup.org/147219530
IDR: 147219530 | УДК: 811-112
Текст научной статьи О стиле перевода ветхозаветных книг М. Фотинского
Перевод книг Ветхого Завета (Быт 1–2, Пс, Песн, Ион, Мал) иерея Михаила Фотин-ского, рукопись которого (РГБ. Ф. 173/II. Ед. хр. 12) датирована 1806 г., представляет собой оригинальный памятник, который характеризуется своеобразными лингвистическими решениями. В исследованиях по истории библейских переводов на русский язык обычно указывают на работы протоиерея Герасима Павского как на первый опыт перевода книг Ветхого Завета с древнееврейского оригинала [Чистович, 1899. С. 323; Алексеев, 2002. С. 153; ЭСБЕ]. Однако исследуемый нами перевод ветхозаветных книг иерея Михаила Фотинского опережает самые ранние переводы Г. Павского более чем на 15 лет. Памятник не был ранее описан, изучен и издан, поэтому остается недоступным для научного сообщества. В данной статье рассматриваются основные стилистические особенности языка перевода.
В заглавии перевода сам автор определяет язык перевода как язык российский , что является одним из наименований русского языка конца XVIII в.
В традиции Русской православной церкви при богослужении используются церковнославянский язык и Священное Писание, переведенное на церковнославянский, причем данный перевод хотя и претерпел, безусловно, различные редакции и правки, берет свое начало еще от первых славянских книжников, Солунских братьев, – Кирилла и Мефодия и их учеников [Верещагин, 1997. С. 12].
Со второй половины XVIII в. русский литературный язык характеризуется полифункциональностью, общезначимостью, кодифицированностью и дифференциацией стилистических средств, что позволяет определять его как язык нового типа [Живов, 1996. С. 14]. Такой язык может обслуживать разные сферы и передавать любые смыслы.
Таким образом, сам факт осуществления М. Фотинским перевода Священного Писания на российский язык демонстрирует, что русский литературный язык XVIII в., пусть и с обилием церковнославянизмов, мог успешно использоваться для передачи сакральных смыслов.
Андерс К. Ю. О стиле перевода ветхозаветных книг М. Фотинского // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 2: Филология. С. 81–86.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 2: Филология © К. Ю. Андерс, 2016
Основным назначением перевода, как указывает сам переводчик в заглавии рукописи, было рассмотрение, изучение и толкование оригинального еврейского текста: с подлиннаго еврейскаго на российский , какъ они самы переводятъ с приложениемъ некоторых ихъ изъяснений [НИОР РГБ, Ф. 173/II. № 12. Л. 2]. Ключевую позицию при этом занимает требование ясности: перевод должен быть выполнен на максимально понятном для читателя языке, которым для М. Фотинского является русский.
Требование ясности при переводе библейских книг на российский язык приводит в определенном смысле к упрощению сакрального текста (хотя основной способ перевода, буквальный, также вызывает упрощение). Для описания строгого поста уверовавших нине-витян в книге Ионы автор выбирает простой, но не сниженный тон повествования, употребляя сочетание одеться мешками (Иона 3:5) вместо церковнославянского облечься во вретища .
Выбор в качестве языка перевода российского языка также позволяет автору реализовать еще одну задачу – приблизить священный текст к читателю. М. Фотинский реализует этот принцип, используя прием культурной модификации: реалии чуждой культуры оригинального текста передаются через аналогии с родной ему культурой.
Рассмотрим следующие примеры из перевода: какъ шатры татарски (Песн. 1:5), съ селенГями татарскими (Пс. 120:5). В оригинальном масоретском тексте использовано слово ֵק ָדר /qēdā ́r/ – «(по значению темнокожий) название потомков Измаила, образовавших народное племя бедуинов и живших в восточной части пустыни между каменистой Аравией и Вавилонией» [Штейнберг, 1878. С. 416]. Септуагинта и церковнославянский перевод следуют масо-ретскому тексту: ὡς σκηνώματα Κηδαρ (μετὰ tSv aKnvtop.aTov KnSap); якоже селенГя Кидарска (съ селенги Кидарскими) соответственно. М. Фотинский же, выбирая первоначальное значение слова, отказывается от «чужих» еврейских этнонимов и подбирает аналогичный, существующий в родной ему культуре вариант татары. Таким образом, переводчик переносит библейскую историю в российский контекст, накладывает ее на близкие ему и его читателю события. В некотором роде данный прием нацелен на передачу читателю ахронотопичности библей- ского текста: все события происходят везде и нигде, всегда и сейчас.
Кроме того, идиолект М. Фотинского характеризуется использованием в переводе разнородных языковых явлений, к которым относятся архаизирующие, просторечные и украинские элементы.
Архаизация языка как стилеобразующий феномен достигается с помощью использования церковнославянизмов и употребления собственно архаизмов.
Церковнославянские элементы в тексте перевода М. Фотинского во многом обусловлены обращением переводчика к церковнославянскому тексту по Елизаветинской Библии. Так, переводчик использует для перевода церковнославянские варианты в следующих случаях:
-
1) употребление церковнославянизма как маркера книжного стиля. Книжные, церковнославянские лексемы явно выделяются в тексте перевода, так как, ощущая их инородность и возможную непонятность для читателя, М. Фотинский старается дополнительно объяснить их значение в комментариях. Например, при переводе изму его { выйму его изъ скорби } 1 (Пс. 91:15) М. Фотинский следует церковнославянскому тексту, сохраняя книжную форму изму . Но в комментарии раскрывает значение церковнославянизма через аналогичную русскую форму выйму ;
-
2) использование церковнославянского варианта для семантического разграничения: бежать на Таршишъ { море называемое } (Иона 1:3); насаженъ 0арсисомъ { драгоценный камень } (Песн. 5:14). Переводчик разделяет два значения полисеманта ^'^■:п Ztarsiis/, выбирая разные способы их передачи: при переводе имен собственных транскрибирует их с еврейского, а для реалий применяет церковнославянское чтение ( Ѳарси́ съ );
-
3) подбор лексических эквивалентов: в котором есть болше w дванадцать темъ человека { тма значитъ десять тысячъ } (Иона 4:11). Переводчик использует церковнославянский текст с его языковыми возможностями как источник наиболее точного дословного перевода еврейской лексемы ִרּבֹו /ribbṓ/ ‘десять тысяч’, аналогом ко-
- торой является специализированное церковнославянское слово тма.
Собственно архаизмами являются примеры с лексемами вага , важить , крилы : на вагах поднимать (Пс. 62:10), важилъ стезю гнѣва своего (Пс. 78:50), лежали ли вы между предѣлами крилъ (Пс. 68:14). В Словаре русского языка XVIII в. указанные лексемы в соответствующих контексту значениях отмечены как выходящие из употребления [СРЯ XVIII, 1985. С. 247; СРЯ XVIII, 2000. С. 256]. Однако, учитывая украинский колорит, лексема важить может быть трактована как украинизм (укр. важити ), а крилы как церковнославянизм, но по отношению к русскому языку исследуемого периода они архаичны.
Заметим, что процесс архаизации мог быть неосознанным для самого переводчика. Архаизирующие языковые элементы в переводе могут объясняться ориентацией на книжную традицию, тем более при переводе такого традиционного текста, как Библия. «В письменной речи эпоха сосуществования форм, как правило, отклоняется “в сторону” традиций, ибо пишущий субъективно … всегда отдает предпочтение традиционной норме, даже если он не пользуется ею в повседневном диалоге, и никогда не ориентируется на новообразования, даже если они уже закреплены узусом – “обычным” употреблением на уровне устной (а не письменной) речи» [Хабургаев, 1990. С. 25].
Другой языковой особенностью перевода является наличие в тексте просторечных элементов – таких, которые не обладают яркой экспрессией (просторечные), и таких, которые имеют сниженную, грубую экспрессивную окраску (грубо-просторечные) [Лукьянова, 2013. С. 126]. Таким образом, просторечные элементы не имеют стилистической маркированности, в то время как грубо-просторечные лексемы отчетливо маркируются как сниженные.
В тексте перевода регулярно встречается просторечная лексема ишолъ , тождественная словоформе шел – глаголу прошедшего времени, 3-го л., ед. ч, например: и сискалъ корабль , что ишолъ на Таршишъ (Иона 1:3); что не ишолъ въ совѣтъ нечестивых (Пс. 1:1); { когда ишолъ въ харанъ } (Пс. 20).
Форма ишел отсутствует в словарях, но зафиксирована в источниках – тексте фольклорной песни: «Я ишёл, молодец, дорогою», записанной П. В. Киреевским в де- ревне Зиново Белевского уезда Тульской губернии [Песни…, 1929]. Указанная лексема может быть отнесена к просторечным формам, так как не несет стилевой нагрузки.
Грубо-просторечные элементы осознаются переводчиком как стилистически маркированные и поэтому никогда не встречаются в самом тексте перевода. Однако в комментариях к библейскому тексту они используются для достижения ясности, максимальной понятности. Так, в комментарии к стиху покриваетъ сѣдалище { жиром задницу } (Пс. 73:6) для возвышенного церковнославянского слова сѣдалище приводится слово задница , которое в Словаре русского языка XVIII в. сопровождено пометой «простое, просторечное».
Заметим, что использование просторечных элементов может быть обусловлено их архаизирующей, консервативной природой.
Одной из самых ярких особенностей языка перевода М. Фотинского являются украинские элементы, или украинизмы, которые представлены на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях.
-
1. Неразличение гласных звуков [и] / [ы]. В украинском произношении звуки [и] / [ы] совпали в одном звуке, соответствующем русскому [ы]. Следствием этого является хаотичная мена букв ы и и : перелываемый { когда переливается } (Песн. 1:3), синъ (Пс. 2:7), пригаетъ (Песн. 2:8), лысицъ (Песн. 2:15) и проч.
-
2. Билабиальное произношение согласного [в] в позиции перед согласным. Пример вѣрую у тебе (Пс. 40:11 комм.) является скорее исключением, чем правилом, так как обычно в подобных условиях переводчик употребляет предлог въ в соответствующем написании: возрадуетеся въ трепетѣ (Пс. 2:12). Но приведенный пример свидетельствует о том, что произносительной нормой для М. Фотинского являлась именно билабиальная артикуляция, которая вкралась в письменный текст. Вероятно, фонетический принцип в написании вызван повышенной экспрессивностью данного выражения.
-
3. Переход ѣ в i :
-
а) церковнославянизмы блудодѣянiе , благодѣянiе , написанные через i во втором корне блудодiянiемъ (Пс. 106:39 комм.), благодiянiе (Пс. 109:5), отражают исторический переход ѣ в i , типичный для украинского;
-
б) передача в транскрипции [ī] через ѣ при транскрибировании имени собственного, например, энъ Гедѣа (Песн. 1:14) (ср. ֵעין ֶּגֽ ִדי /ʻēn géḏī/).
-
4. Отсутствие начального гласного [и] в приставке из- в соответствии с украинской приставкой з- : враги наши здѣваются (Пс. 80:7) = ‘враги наши издеваются’.
-
5. Лексические украинизмы: Сволоки (Песн. 1:17 комм.) ‘балки’ 2, ланцугами (Пс. 149:8) ‘цепями’, пупяшки (Песн. 2:13) ‘почки’, мармурные (Песн. 5:15) ‘мраморные’, муръ (Песн. 8:9) ‘стена (каменная или кирпичная)’, ластовица (Пс. 84:4) ‘ласточка’ и др.
-
6. Грамматические украинизмы. Формы мене , тебе личных местоимений 1-го, 2-го л., ед. ч. в вин. п. сищу тебе (Песн. 8:1) и род. п. ѿ мене (Песн. 6:5) в соответствии с украинской падежной системой. Последовательное употребление этих форм на протяжении всего текста перевода демонстрирует системный характер языкового явления. Данные элементы могут быть трактованы также и как церковнославянские, но обилие и системность украинизмов позволяют с большей степенью вероятности отнести подобные грамматические формы к названным явлениям.
Таким образом, лингвистический анализ текста рукописи позволил выявить основные языковые особенности перевода Михаила Фотинского. Выбор переводчиком российского языка для перевода священных книг показывает, что русский язык второй половины XVIII в. уже воспринимался как полифункциональный, способный собственными средствами передать сакральный смысл библейских книг и сделать его максимально понятным и близким для потенциального читателя. Несмотря на то что употребление стилистически нейтральных русских лексем в библейском контексте приводит к некоторому упрощению священного повествования (особенно в сопоставлении с традиционным церковнославянским переводом), стилистическая принадлежность переводимого текста выдерживается за счет использования архаичных языковых элементов. Кроме того, для достижения максимальной ясности М. Фо-тинский использует просторечные, а в комментариях также и грубо-просторечные лексемы. Украинизмы различных уровней, встречающиеся в переводе, представляют собой яркую особенность идиолекта переводчика; они системны и стилистически нейтральны.
Список литературы О стиле перевода ветхозаветных книг М. Фотинского
- Алексеев А. А. Библия. Переводы на русский язык // Православная энциклопедия: в 25 т. / Под. ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. М.: Православная Энциклопедия, 2002. Т. 5.
- Верещагин Е. М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М.: Мартис, 1997. 315 с.
- Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М.: Языки русской культуры, 1996. 591 с.
- Лукьянова Н. А. Термины и понятия лексикологии в схемах, таблицах, пояснениях и образцы анализа слов: Учеб. пособие. Новосибирск, 2013. 134 с.
- Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия / Под ред. акад. В. Ф. Миллера и проф. М. Н. Сперанского. М.: Об-во любителей рос. словесности при Моск. ун-те, 1911-1929. Вып. 2, ч. 2: Песни необрядовые. 1929. XII, 389 с. URL: http://febweb.ru/feb/byliny/texts/p22/p2220095.htm
- Хабургаев Г. А. Очерки исторической морфологии русского языка: Имена. М., 1990. 295 с.
- Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. СПб., 1899.
- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1890-1907. URL: http://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/ Библейские_переводы