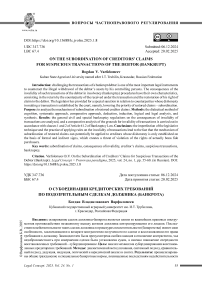О субординации кредиторских требований по подозрительным сделкам должника (банкрота)
Автор: Варфоломеев Б.В.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Вопросы частноправового регулирования: история и современность
Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: оспаривание сделок должника-банкрота является одним из важнейших правовых инструментов противодействия незаконному выводу активов должника контролирующими его лицами. Последствия недействительности таких сделок должника в процедурах несостоятельности (банкротства) имеют свои особенности, заключающиеся в возврате контрагентом полученного по сделке и восстановлении его права требования к должнику. Законодателем была предусмотрена особая санкция в отношение контрагентов, чья недобросовестность при совершении сделки была установлена судом, а именно понижение очередности восстановленных требований – субординирование. Цель: анализ механизма субординирования восстановленных кредиторских требований. Методы: диалектический метод познания, системный подход, сравнительный подход, дедукция, индукция, логический и юридический анализ и синтез. Результаты: проанализированы общие гражданские и специальные банкротные нормы, посвященные последствиям недействительности сделок, проведен сравнительный анализ оснований недействительности сделок в соответствии с п. 1 и 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Выводы: несовершенство законодательной техники и практики применения норм о недействительности сделок приводит к тому, что механизм субординирования восстановленных требований потенциально может применяться в отношение кредиторов, чья недобросовестность устанавливается лишь на основании формальных и косвенных признаков, что создает угрозу нарушения прав фактически добросовестных приобретателей.
Субординация требований, последствия недействительности, право требования кредитора, подозрительные сделки, банкротство
Короткий адрес: https://sciup.org/149148170
IDR: 149148170 | УДК: 347.736 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2025.1.8
Текст научной статьи О субординации кредиторских требований по подозрительным сделкам должника (банкрота)
DOI:
Кризисные явления как в мировой, так и российской экономике стали причиной ненадлежащего исполнения субъектами гражданского права своих обязательств. Институт банкротства (несостоятельности) в возникшей ситуации стал наиболее востребован [5, с. 120]. Несмотря на довольно молодой возраст, институт банкротства является одним из самых востребованных как в практическом, так и доктринальном плане [1, c. 122].
Банкротство является особым институтом защиты прав и интересов кредиторов. Как правило, к моменту принятия судом заявления о признании должника банкротом контролирующие должника лица уже давно совершили все необходимые мероприятия по сокрытию имущества должника. С учетом того, что такая практика в делах о банкротстве является обыденностью, Законодателем был предусмотрен инструмент противодействия подобного рода злоупотреблениям, а именно оспаривание сделок должника.
Согласно положениям п. 1 ст. 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» сделки должника могут быть признаны недействительными как на основании общих норм гражданского законодательства, так и по специальным основаниям. Это открывает широкие возможности для кредиторов и арбитражного управляющего в процессе доказывания и интерпретации обстоятельств совершенных сделок, позволяя квалифицировать их под различные основания для признания недействительности. Например, наиболее детализированными являются специальные основания Закона о банкротстве (например, ст. 61.2 Закона о банкротстве), которые содер- жат обязательный к доказыванию четко определенный перечень условий (обстоятельств), которые подлежат обязательному установлению, и влечет к отказу в удовлетворении требований по иску при их отсутствии. Также при оспаривании сделок должника-банкрота на практике активно используется общегражданское основание недействительности сделок, основанное на категории злоупотребления правом (ст. 10 и 168 ГК РФ). Нормы о злоупотреблении правом не содержат настолько четких критериев и обстоятельств, как п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, поэтому такая категория, как «злоупотребление правом» является довольно абстрактной и может быть интерпретирована по-разному. В области гражданского права прилагаются усилия для того, чтобы четко определить как само понятие «злоупотребление правом», так и принцип добросовестности [10, с. 95]. Однако в связи с этим почти все сделки по выводу активов должника (даже те, которые имеют весьма косвенные признаки подозрительности) можно рассмотреть с точки зрения данной категории.
Последствия недействительности сделок на нормативном и доктринальном уровне наиболее тесно связаны с категорией реституции. Ю.Е. Туктаров указывает, что зарубежным законодательством категория реституции используется в практике к требованиям о возврате полученного по неосновательному обогащению [8, c. 146].
Реституция уходит своими корнями в римское право, как средство преторов для устранения правовых последствий юридического факта, чем на сегодняшний день является применение последствий недействительности сделки [3, c. 195]. В дигестах Юстиниана реституция представляет собой способ восстановления справедливого положения сторон [6, c. 71].
Основное содержание
Исходя из сущности содержания отечественного гражданского законодательства, а именно ст. 167 ГК РФ, сделка, признанная согласно установленным нормам недействительной, не может повлечь за собой каких-либо последствий юридического характера. Однако из указанного обобщенного правила можно выделить одно исключение, суть которого заключается в том, что юридические последствия все-таки могут возникнуть, но только те, которые прямо или же косвенно связаны с фактом ее недействительности. Данные общие правила, предусмотренные законом, являются своего рода постулатами, на которые необходимо ориентироваться при регулировании правоотношений в указанной области права.
На основании положений, предусмотренных содержанием действующей редакции п. 2 ст. 167 ГК РФ, факт признания недействительности сделки влечет на стороны такой сделки определенные обязательства. К таковым может относиться обязательство, предусматривающее возврат одной стороны своему контрагенту всего того, что было получено по заключенной сделке. Сюда могут включаться выполненные работы или же оказанные услуги. В некоторых случаях, в силу характера сделки и ее предмета, подобный возврат невозможно осуществить в натуре, тогда следует возвратить стоимость того, что стороне удалось получить. Данное обязательство носит общий характер и является наиболее распространенным на практике последствием. Однако могут возникать и иные последствия, которые прямо предусматриваются в законе.
В условиях банкротства последствия недействительности сделок имеют свои особенности. Они обусловлены ограничениями прав должника на распоряжение своим имуществом после начала процедуры банкротства, а также наличием очередности удовлетворения требований кредиторов. Необходимость соблюдения баланса прав и законных интересов лиц – участников конкурсного про- цесса имеет свое обширное воплощение в многочисленных судебных актах [4, c. 107]. Следовательно, если сделка между должником и кредитором была возмездной и должник получил встречное исполнение, то кредитор получает восстановленное требование к должнику в размере исполненного, что дает ему возможность включиться в реестр требований кредиторов (ст. 61.6 Закона о банкротстве).
В зависимости от основания, по которому сделка была признана недействительной, очередность погашения таких кредиторских требований может быть разной:
-
1) в рамках 3-й очереди реестра требований кредиторов (п. 1 ст. 61.2, п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве);
-
2) после удовлетворения требований кредиторов 3-й очереди реестра (п. 2 ст. 61.2, п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве).
Законом предусмотрено погашение требований кредитора по недействительной сделке в рамках 3-й очереди, при условии, что кредитор являлся добросовестным приобретателем. В ином случае действует механизм понижения очередности требований кредиторов (субординация).
На основании изложенного можно с уверенностью говорить о том, что законодатель таким образом попросту разработал особую модель гражданско-правовой санкции по отношению к кредиторам, которые были осведомлены о противоправных и недобросовестных целях должника. В частности, целях причинить вред имущественным правам кредиторов.
-
В. П. Камышанский считает, что как и всякая юридическая ответственность, гражданско-правовая ответственность призвана служить укреплению законности и правопорядка [2, c. 2188].
Субординация кредиторских требований, хоть прямо и не предполагает их исключение (прекращение), но значительно затрудняет их удовлетворение – делая его фактическим невозможным (с учетом того, что в 2023 г. доля удовлетворенных требований реестровых кредиторов у должников-организаций составила всего лишь 9,7 % [7]).
При более подробном рассмотрении п. 1 и 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве следует от- метить, что данные основания являются очень схожими (см. таблицу).
Отсутствие необходимости доказывания субъективных признаков (наличие цели и осведомленности кредитора о противоправных целях должника) делает п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве более скорым и эффективным основанием для признания сделки недействительной [9, c. 615].
Следует отметить, что неравноценность встречного исполнения с точки зрения п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве является частным случаем причинения вреда имущественным правам кредиторов (так как в результате совершения такой сделки уменьшается размер имущества должника). Распознать признаки подозрительности в безвозмездной сделке значительно проще, чем в сделке с неравноценным встречным исполнением, поэтому вывод активов должника чаще стараются прикрывать именно за сделками с неравноценным встречным исполнением.
Исходя из этого возникает проблема соотношения данных оснований недействительности, так как по сути п. 2 ст. 61.2 поглощает п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Согласно разъяснениям п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, если подозрительная сделка была заключена в течение года до возбуждения дела о банкротстве, то такая сделка признается недействительной на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Если же сделка была совершена более года назад, но не позднее трех лет, то она может быть признана недействительной на основании п. 2 ст. 61.2.
Исходя из таких условий назревает вопрос, почему п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве приводит к субординации требований, а п. 1 ст. 61.2 – нет?
Этим же положением Постановления установлено, что для признания подозрительной сделки недействительной, которая была совершена в течение 1 года до принятия заявления о признании банкротом, достаточно установить круг фактов, определенных п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, без необходимости установления обстоятельств п. 2 этой же статьи.
Если вкратце, то это означает, что раз необходимость доказывания недобросовестности контрагента отсутствует, то он является добросовестным и его требование не подлежит субординации.
Конструкция норм предполагает, что в сделках, совершенных за пределами 1 года до возбуждения дела о банкротстве, имеет место цель причинения вреда имущественным правам кредиторов. В этом случае восстановленное требование должно подлежать субординации, поскольку в рамках доказывания необходимо установить недобросовестность контрагента, а если аналогичная сделка, совершенная при тех же обстоятельствах, но в пределах 1 года – то требование будет включено в 3-ю очередь реестра (так как в предмете доказывания отсутствует факт недобросовестности контрагента), что является абсурдным.
Заключение
На практике доказать недобросовестность контрагента по сделке проще, если сделка была заключена незадолго до начала процедуры банкротства. Это объясняется тем, что легче установить неплатежеспособность должника и подтвердить осведомленность контрагента об этом, так как к момен-
Сравнение п. 1 и п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве
|
Условия заключения сделки |
Сделка с неравноценным встречным исполнением (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве) |
Сделка, совершенная в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве) |
|
Срок совершения |
1 год до возбуждения дела (или после его возбуждения) |
3 года до возбуждения дела (или после его возбуждения) |
|
Последствия сделки |
Неравноценность встречного исполнения |
Вред имущественным правам кредиторов |
|
Наличие цели |
– |
Наличие цели причинения вреда имущественным правам кредиторов |
|
Осведомленность контрагента |
– |
Другая сторона знала о цели должника к моменту совершения сделки |
ту сделки обычно уже вступили в силу судебные решения о взыскании с должника. Поэтому доказать недобросовестность кредитора по сделке, совершенной в течение года до возбуждения дела о банкротстве, не составляет большой трудности, но из-за того, что она не входит в предмет доказывания по норме п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, кредитор является добросовестным.
Вышеизложенное можно описать в двух формулах:
-
1. Отсутствие в норме необходимости доказать недобросовестность контрагента = контрагент фактически является добросовестным = 3-я очередь реестра.
-
2. Наличие в норме необходимости доказать недобросовестность = контрагент фактически является недобросовестным = после 3-й очереди реестра.
Таким образом, идея субординации требований является положительной с точки зрения наказания недобросовестных контрагентов, однако ее фактическая реализация является несколько искаженной, так как понижение очередности требований происходит не в связи с фактической недобросовестностью контрагента, а только лишь с формально установленной.