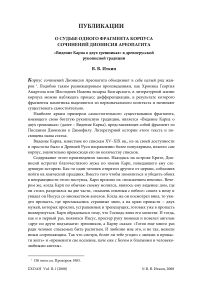О судьбе одного фрагмента корпуса Дионисия Ареопагита в древнерусской рукописной традиции
Автор: Иткин Владимир Владимирович
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Публикации
Статья в выпуске: 1 т.2, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена судьбе одного фрагмента Дионисийского корпуса («Видения Карпа о двух грешниках») в древнерусской рукописной традиции. См. также другие статьи Вл. Иткина
Дионисийский корпус, церковнославянская литературная традиция, эсхатология
Короткий адрес: https://sciup.org/147103562
IDR: 147103562
Текст научной статьи О судьбе одного фрагмента корпуса Дионисия Ареопагита в древнерусской рукописной традиции
К орпус сочинений Дионисия Ареопагита объединяет в себе целый ряд жанров 1 . Подобно таким разножанровым произведениям, как Хроника Георгия Амартола или Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского, в литературной жизни корпуса можно наблюдать процесс дифференциации, в результате которого фрагменты памятника выделяются из первоначального контекста и начинают существовать самостоятельно.
Наиболее ярким примером самостоятельного существования фрагмента, имеющего свою богатую рукописную традицию, является «Видение Карпа о двух грешниках» (далее – Видение Карпа), представляющее собой фрагмент из Послания Дионисия к Димофилу. Литературной истории этого текста и посвящена наша статья.
Видение Карпа, известное по спискам XV–XIX вв., из-за своей доступности и простоты было в Древней Руси несравненно более популярным, нежели сам корпус, значительно превосходя его по количеству списков.
Содержание этого произведения таково. Находясь на острове Крите, Дионисий встретил благочестивого мужа по имени Карп, поведавшего ему следующую историю. Как-то один человек отвратил другого от церкви, соблазнив пойти на языческий праздник. Вместо того чтобы помолиться и убедить обоих в неправедности этого поступка, Карп проклял их «пожжением некоим». Вечером же, когда Карп по обычаю своему молился, явилось ему видение: дом, где он стоял, разделился на две части, «пламень огненыи с небесе» сошел к нему и увидел он Иисуса со множеством ангелов. Когда же он посмотрел вниз, то увидел пропасть, где пресмыкались страшные змеи, а на краю пропасти – двух мужей, которых проклял, устрашенных и трепещущих, готовых уже в пропасть низвергнуться. Карп обрадовался тому, что Господь внял его молитве. И тогда, как и в первый раз, появился Иисус, простер руку помощи и повелел ангелам «друг по друзе подъимати» грешников, а Карпу сказал: «Готов еще много раз ради человек спасаемых быть распятым. И любезно мне это, и не так, нежели иным согрешающим. Так что смотри, более ли тебе угодно с змеями в пропасти жить» и «пременити сие вселение, паче еже с Богом и благыими и человеко-любными ангелы».
Этот текст представлен в древнерусской рукописной традиции в шести вариантах:
-
(1) в составе корпуса сочинений Дионисия Ареопагита, в переводе Исайи;
-
(2) в составе Стишного Пролога (в памяти от 3 октября);
-
(3) в составе «Мучения Дионисия Ареопагита» сочинения Симеона Метафраста;
-
(4) в составе Первого послания Ивана Грозного князю Курбскому («Великого свя-щенномученника Поликарпа святителя видение…»).
-
(5) в качестве отдельной статьи под заголовком «Святаго Дионисия Ареопагита повесть красна, яко не подобаеть съгрешающая кляти, аще и к Богу съгрешают»; статья часто встречается в сборниках, а также в составе Стишного Пролога под датой 17 мая, ни к чему не приуроченная, в качестве поучительной статьи 2 (если статья находится не в Стишном Прологе, то часто имеет к отсылку либо к нему, либо к «Мучению» Симеона Метафраста);
-
(6) в четьих минеях Дмитрия Ростовского, где переработано «Мучение» Метафраста (этот вариант также встречается и отдельно в сборниках 3 ).
Анализируя все имеющиеся тексты, можно заметить, что сильно различающихся текстов имеется всего пять, так как варианты 3 и 5 очень близки и текстуально почти полностью совпадают, за исключением ряда разночтений, впрочем, очень существенных для нашего исследования. Литературную же традицию самостоятельного произведения Видение Карпа имеет лишь как «Святаго Дионисия Ареопагита повесть красна, яко не подобаеть съгрешаю-щая кляти, аще и к Богу съгрешают» (далее – «Повесть»), и именно на ней мы сосредоточим внимание.
«Повесть» известна в рукописях, начиная с XV в. Древнейшие из известных списков содержатся в Стишном Прологе РНБ, ОСРК, F.I.683, кон. XV в., а также в сборнике РНБ, Соловецк. собр., № 623/623, 1450–60-е гг. В последнем списке содержатся существенные разночтения как с первым упомянутым, так и с остальными, более поздними списками памятника.
Текст самой «Повести» существенным образом отличается и от варианта Исайи, и от варианта Стишного Пролога (3 октября), однако, как уже было сказано, практически тождественен варианту «Мучения» Метафраста, полное название которого – «Мучение святаго Дионисиа Ареопагита, списано блаженным Симеоном Метафрастом, переведеся из греческиа книгы Максимом иноком».
Поскольку «Повесть» в качестве отдельного произведения не становилась объектом исследования, внимание ученых было направлено на текст «Мучения», и это дало повод говорить об особенностях нового перевода фрагмента
Дионисия, а также об особенностях новой переводческой техники, причем согласно традиции автором перевода считался Максим Грек. Отождествление Максима инока и Максима Грека в работах П. Строева, А. И. Соболевского и последующих исследователей не имеет убедительной аргументации. Так, например, А. Л. Соломоновская указала на то, что определенные приемы перевода в этом произведении указывают на Максима Грека и его школу 4 . На деле, единственным доводом в пользу этой гипотезы является то, что Максим Грек неоднократно переводил произведения Метафраста.
Однако очевидно, что создание перевода «Мучения» с Максимом Греком не связано, так как «Мучение» упоминается еще в XV в.: в описании сборников Кирилло-Белозерского монастыря, составленном в конце XV в., в составе одного из сборников упоминается «Повесть», списанная «от Мучения». Кроме того с такой же отсылкой к «Мучению» «Повесть» встречается и в Златой Чепи II типа, по классификации Н. С. Крутовой (дополненный вариант Пандектов Никона Черногорца), в списках, относящихся к концу XV в.
Каково же время создания «Повести» и ее взаимоотношение с текстом «Мучения»? По нашему мнению, «Повесть» не является, как на это указывает заголовок, отрывком «Мучения», «списанным с него». Наоборот, переводчик «Мучения» воспользовался уже готовым текстом, вставив его в свой перевод . На это указывают следующий факт: при сравнении текстов «Мучения» и «Повести» бросается в глаза нелогичность в тексте первого: в основном тексте здесь идет речь об одном «змие», как и в «Повести», а в конце – о многих змеях, как у Исайи и в греческом тексте. Приведем текст концовки (чтения, совпадающие в «Повести» и в «Мучении» обозначим курсивом; чтения, совпадающие в «Мучении» и у Исайи – полужирным шрифтом, совпадающие во всех трех – подчеркиванием).
«Повесть» по списку Стишного Пролога РНБ, ОСРК, F.I.683, кон. XV в.
Бии мене, прочее готов бо есмь множицею и паки о человецех спасаемых рас-пятися. И любезно ми есть се, неже инем съгрешаю-щим.
Обаче зри убо, аще угодно ти есть с змиемь в пропасти жителствовати и преме-нити сие вселение, паче еже с Богом и благыими и человеколюбными ангелы.
«Мучение» С. Метафраста по списку ВМЧ (РНБ, Софийское собр., № 1318, 1540-е гг.)
Бии мене, прочее готов бо есмь множицею и паки о человецех спасаемых рас-пятися. И любезно ми есть се, неже инем съгрешаю-щим .
Обаче зри , аще добре ся тебе имееть, еже в пропасти со змиами пребывание возъменяти за пребывание с Богом и человеколюбивыми агглы
Корпус сочинений Дионисия Ареопагита (РНБ, собр. Гильфердинга, № 46, 1470-е гг., далее – Гильф. 46)
Бии мене, прочее готовь бо есмь и пакы за челове-кы спасаемыие пострада-ти. И любезно ми се есть не иныим съгрешающим человеком.
Обаче зри , аще добре имаши ты в пропасти и сь змиями пребывание за-менити, еже с Богомь и благыми и человеко лю-бивыими аггелы
Вывод напрашивается сам собой: книжник, переписывавший «Мучение» имел дело с дефектным списком повести, не содержавшим конца, и механически перенес в свой текст концовку Исайи, не переработав ее.
Однако возникает вопрос: был ли дефектным список «Повести», взятой для «Мучения», или же на каком-то этапе дефектным оказался список самого «Мучения». Если верно первое – первична «Повесть», если верно второе – первичными могут быть как «Повесть», так и «Мучение».
На наш взгляд, предпочтителен первый вариант. Дело в том, что, сравнивая списки «Повести», мы обнаружили, что текст «Мучения» явно восходит к одному из списков «Повести» (РНБ, Соловецк. собр., № 623/623, 1450–60-е гг., далее – Сол. 623), имеющему ряд ярких индивидуальных чтений и особый заголовок «О еже не кляти съгрешающих к Богу и к нам».
В этой рукописи, равно как и в списках «Мучения», после фразы «Яко от церкви некыя соврати к безбожному» отсутствуют слова «сиречь в нечестие», присутствующие во всех других списках «Повести». Однако если эти слова можно расценить как интерполированную маргиналию, то никак нельзя сказать этого о втором случае, когда во фразе «ово неволею, ово же волею», читающейся в «Повести», в «Мучении» и Сол. 623 отсутствует второй член – «ово же волею». Таким образом, становится очевидным, что «Мучение» использует дефектный оригинал, и мы знаем, что он тождественен протографу Сол. 623.
***
Итак, мы выяснили, что переводчик «Мучения» включил в свой текст «Повесть». Теперь необходимо понять, каким образом «Повесть» соотносится с переводом Исайи. До сих пор исследователи, сравнивая Видение Карпа в тексте Исайи с текстом «Мучения», говорили о последнем как о новом переводе. Мы хотим показать ошибочность данной точки зрения и предложить на суд исследователей два альтернативных варианта литературной истории «Повести».
А) «Повесть» является редакцией текста Исайи
Внимательно анализируя текст, можно предположить, что здесь мы сталкиваемся не с новым переводом, а, вероятно, просто с редакцией текста Исайи.
Во-первых, на это указывает само заглавие повести, взятое из маргиналии к соответствующему месту из Послания к Димофилу у инока Исайи.
Во-вторых, на это также указывают пропуски в «Повести» больших фрагментов греческого оригинала (заметим, что в греческий текст о Карпе в Послании Димофилу и «Мучении» Метафраста, судя по опубликованному в Патрологии Миня, не имеет отличий). Так, например, отсутствуют фрагменты, соответствующие следующим у Исайи: «Яко убо да и яже сумненная имь суде-щиимь и бесловесне сверепещиимсе законом правды целомудрствовати пону-жденны будуть» и «встаеть убо ниже сновьь самех многыих сущих и присно пресецаемыих вьне смущениа насладивсе» 5. Помимо этого, во многих случаях присутствует упрощение текста оригинала (упрощение синтаксических конструкций, замена словосочетаний на слова и т. д.).
В-третьих, на протяжении всего текста мы видим ряд общих чтений варианта Исайи, «Мучения» и «Повести», что может указывать на зависимость последних двух от первого. Мы уже показали это на примере концовки, теперь же возьмем начальный фрагмент.
«Повесть» по списку Стишного Пролога РНБ, ОСРК, F.I.683, кон. XV в.
Великыи Дионисие Арео-пагит рече: яко бывшу ми иногда в Крите, священ-ныи странноприато Карп муж аще и кто ин многыа ради чистоты ума к бого-видениом подобнеиши.
«Мучение» С. Метафраста по списку ВМЧ (РНБ, Софийское собр., № 1318, 1540-е гг.)
Великыи Дионисие Арео-пагит рече: яко бывшу ми иногда в Крите, священ-ныи странноприато Карп муж аще и кто ин многыа ради чистоты ума к благо-видениом подобнеишимь.
Корпус сочинений Дионисия Ареопагита (РНБ, собр. Гильфердинга, № 46, 1470-е гг.)
Бывшу ми некогда в Крите священныи странноприет ме Карп мужь аще кто ин многие ради чистоты ума к боговидению приклад-неиши
Итак, в случае с «Повестью» мы можем предположить здесь редакцию древнерусским книжником перевода Исайи, причем более вероятно, что такое отношение к тексту больше подходит к созданию поучительной статьи, какой и является «Повесть», нежели к переводу греческого жития (отношение к переводу в XV в. не было еще настолько свободным, чтобы до такой степени отступать от принципа буквальности).
Вполне вероятно, что «Повесть» была одной из тех поучительных статей, которые дополнили Стишной Пролог в конце XIV – начале XV в. Рукописная и литературная традиции «Повести» в это время есть яркое свидетельство того, что Корпус сочинений Дионисия Ареопагита, появившийся на Руси был сразу же воспринят древнерусскими книжниками и подвергался переработке.
Этому способствовало то, что само Видение Карпа было известно в Древней Руси и помимо перевода Исайи, а именно в составе Стишного Пролога под датой памяти Дионисия 3 октября. Этот древнейший перевод также повлиял на «Повесть», хотя и не так сильно: в лексике здесь совпадений практически нет. Зато, вероятно, отсюда берет начало описания «змия» в единственном числе. Кроме того, именно в Стишном Прологе Карп читается как Карпос, и такое чтение известно в многих списках «Повести» (знаменательно, что во всех этих списках читается указание: «От Пролога»).
Подводим итог вышесказанному. Согласно нашей первой гипотезе, можно предположить, что создатель «Повести» обработал текст Исайи (с оглядкой на текст Стишного Пролога), изрядно упростил его и создал поучительную статью. Несмотря на то что этот тезис звучит весьма убедительно, мы бы хотели предложить еще один вариант решения этой текстологической загадки, не менее аргументированный и, как ни парадоксально, приводящий к совершенно противоположному выводу.
Б) «Повесть» существовала до перевода Исайи и была использована им
Действительно, ничто не мешает нам предположить, что «Повесть» издревле существовала у славян, была взята Исайей и легла в основу его перевода Послания к Димофилу. Совпадение чтений в обоих текстах может привести нас и к такому выводу. Более того, маргиналия, которая находится у Исайи и является заголовком «Повести», как раз может свидетельствовать о том, что изначально она и была заголовком. Наличие сокращений в «Повести» тоже еще не обязательно означают усеченную редакцию; возможно, Исайя пользовался кратким текстом «Повести» наряду с греческим оригиналом.
Чтобы предположить, что это был за текст, обратимся к еще одному варианту Видения Карпа, а именно к первому посланию Ивана Грозного Андрею Курбскому, где текст Видения в переводе Исайи соседствует с совершенно иным вариантом. В этом втором варианте изменилось даже имя главного персонажа, читающегося здесь как Поликарп 6 . Текст этого варианта даже отдаленно не соотносится со всеми остальными, он сильно сокращен, оставлена лишь сюжетная канва.
Вопрос о том, зачем было Ивану Грозному помещать в одном месте два почти одинаковых по содержанию текста, издавна волновал исследователей. Так, Я. С. Лурье рассматривает повтор как «риторический прием, довольно обычный для царского послания». Исследователь считает, что имя Поликарп возникло здесь в результате путаницы, так как посланию Димофилу у Дионисия предшествует послание Поликарпу (в краткой редакции упоминается Поликарп Измирский, адресат Дионисия). При этом, Я. С. Лурье решительно отвергает версию Н. Устрялова 7 и затем К. Штелина 8 о тождественности Поликарпа у Грозного и известного архимандрита Печерского монастыря Поликарпа, жившего в XII в 9 .
Немецкий исследователь Г. Гольтц впервые указал на близость «Повести» и фрагмента о Поликарпе у Ивана Грозного. Связывая «Повесть» с «Мучением» Метафраста, Г. Гольтц предположил (впрочем, не подкрепляя тезис доводами), что до Ивана Грозного дошла краткая форма «Повести», и пришел к заключению о том, что в послании можно говорить о «сопоставлении двух традиций, хорошо известных редакторам, своего рода «научном примечании», почти современном «текстологическом варианте» 10.
Тезис Г. Гольтца кажется вполне допустимым: связь с «Повестью» здесь можно уловить в том, что у Грозного упоминается лишь один «змий» (правда, эту деталь автор переработки мог позаимствовать и в Стишном Прологе), и в том, что, как и в «Повести», здесь не упоминается языческое празднество, отправившись на которое согрешили два мужа.
Внимательнее нам хотелось бы отнестись к предположению Н. Устрялова и К. Штелина, так как связь с Поликарпом Печерским не представляется нам такой невозможной. Чем можно объяснить тот факт, что создатель позднейшей краткой редакции первого послания отказался от текста Исайи и оставил фрагмент о Поликарпе? Если согласиться с мыслью Г. Гольтца о своеобразном «научном примечании», то, судя по всему, этим примечанием (вторичным, как любое примечание) был текст Исайи, и соответственно история о Поликарпе была, согласно мнению редактора, более значимой или же, с его точки зрения, изначальной. Нет ничего невероятного в предположении о том, что «Повесть» как самый близкий этому тексту вариант явилась источником для рассказа о Поликарпе Печерском, а образованный редактор решил присовокупить к этому рассказу первоначальный источник – наиболее близкий к греческому тексту перевод инока Исайи. Возможность существования такого текста о Поликарпе Печерском может указывать на существование литературной традиции «Повести», которая могла быть и до перевода Исайи.
Еще одним доводом в пользу нашей гипотезы является то, что мы можем привести другой пример использования Исайей славянских источников, а именно Изборника 1073 г. По странному стечению обстоятельств немецкий исследователь Гельмут Кайперт, сравнивавший тексты Исайи и Изборника, обратил внимание лишь на различие переводов 11 , в то время как очевидна и их преемственность. В качестве примера приведем отрывок из 7 главы трактата Дионисия «О церковном священноначалии» из утраченной тетради 2 части Изборника, реконструированного нами по позднейшему списку. Наряду с текстами Изборника и Исайи, приведем еще один чрезвычайно любопытный вариант этого фрагмента, содержащийся в сборнике РНБ, Софийское собр. 1450, сер. XVI в. (далее – Соф. 1450). Полужирным курсивом обозначим совпадающие чтения у Исайи и в Изборнике; подчеркиванием – совпадающие чтения у Исайи и в софийском сборнике; наконец, полужирным шрифтом обозначим совпадения в софийском сборнике и Изборнике.
ИЗБОРНИК 1073 г.
РНБ, Кирилло-Белозерское собр, № 5/1082, 1445 г.
Затвори бо рече Господь о нем и приимет кождо противу, яже сотвори телом, любо благо, любо зло, а якоже и праведных молитвы в сем житии , а не по смерти , к подобьныим чистым молбам помогают, точию словеса ны наказають истовая пре-даниа, что от Самоила Саул ползу прия, что ли евреиским людем полза бысть пророческа молитва.
Корпус сочинений Дионисия Ареопагита
ГПНТБ СО РАН, F.VI.6, кон. XV–нач.
XVI в.
Затвори бо рече Господь нашь и приимет кождо , яже телом прямо яже съдела, любо благо, любо зло , а яко-же и праведных молитвы и в сем житии , кольми паче смерти, в достоиных священн ым молитв ам деиствують, токмо словес нас учить истинно предание или что от Самуила Саул ползовася, что же ев-реиския люди ползова пророческа молитва .
Сборник, Соф. 1450, сер. XVI в.
Затвори бо рече Богъ от них и приимет кождо, яже с телом съдеа или благо, или зло, праведных же молитвы, яко же и в нынешнем житии, не точию по смерти в дос-тоиных священн ых молитв ы деиствують, сло-веснаа нас наказують истиннаа преданиа, что бо от Самуила Саул плъзовася, что же ли евреискиа люди плъзова пророческаа молитва .
Сравнивая текст Исайи с текстом Изборника, мы видим достаточное количество совпадающих чтений, чтобы говорить о переработке текста Изборника Исайей. Смотря на текст Соф. 1450, мы обнаруживаем вещь еще более интересную. Фрагмент Дионисия, который благодаря Изборнику 1073 г., получил самостоятельное хождение в древнерусских сборниках (в том виде, в котором он содержался в Изборнике), здесь осовременен и правлен по переводу Исайи.
Соф. 1450 интересен здесь потому, что дает нам возможность применить непривычный в отношении корпуса Дионисия метод поиска древнейшего текста. В данном случае налицо существование тpех текстов: пеpвого (Изборник), втоpого (перевод Исайи) и тpетьего (Соф. 1450), спpавленного по втоpому, но имеющего в качестве отправной точки пеpвый текст. Экстраполируя эту схему на другие тексты, можно сказать следующее. Встpечая отpывки типа тpетьего текста, очень похожие на отpывки типа втоpого, мы можем выявить пеpвый текст, котоpый является дpевнейшим.
Вернемся к «Повести» и напомним, что ситуация с ней весьма похожа на описанную выше. Как и в случае с фрагментом Изборника 1073 г., «Повесть» в составе «Мучения» правлена по переводу Исайи, а к находящемуся в зависимости от «Повести» рассказу о Поликарпе в послании Ивана Грозного вариант Исайи прилагается, что также можно воспринимать как своеобразную справу. Напомним, что «Повесть» имеет ряд чтений, совпадающих с текстом Исайи. Если дела обстоят именно так, то мы, пользуясь вышеизложенной схемой, можем сопоставить с первым текстом архетип «Повести», со вторым (как и в описанном случае) – перевод Исайи, с третьим – имеющуюся в наличии редакцию «Повести». В этом случае, тождественность чтений у Исайи и в «Повести» можно толковать как позднейшую справу «Повести» по тексту «Исайи».
В соответствии с этим история «Повести» может выглядеть следующим образом: «Повесть», переведенная с греческого и переработанная славянским книжником, 1) была использована Исайей; 2) имела свою традицию, в последствии претерпев влияние перевода Исайи; 3) использовалась агиографом Поликарпа Печерского, чей текст, видимо, в усеченном варианте попал в первое послание Ивана Грозного Андрею Курбскому.
Мы предложили два варианта развития текста «Повести». Для того чтобы выбрать из них единственно верный, необходимо найти дополнительные рукописные материалы, однако каков бы ни был вывод, с уверенностью можно сказать одно: в обоих случаях фрагмент произведения, обрастая своей рукописной традицией, ставит под вопрос целостность корпуса Дионисия, превращая его в сборник с заложенной потенцией трансформации.
Процесс дифференциации или отделения фрагментов текста от первичного контекста в корпусе Дионисия встречается часто и не ограничивается выбранным нами произведением. Так, в одном списке индекса истинных книг XVI в., выявленном И. М. Гpицевской, наряду с сочинениями Дионисия Аpеопагита, имя которого встречается и в аналогичных индексах XV в., впервые появляется имя Еpофея Афинского, легендарного учителя Дионисия 12 . Парадокс заключается в том, что фрагменты сочинений, приписанных автором ареопаги-тик св. Иерофею, встречаются только в составе корпуса. Исходя из этого следует думать, что сочинения Иерофея стали восприниматься древнерусскими книжниками как нечто от корпуса отличное и отдельное. Далее имя Иеро-фея попало в кодекс истинных книг, входящий в состав «Киpилловой книги», а в позднейшем переводе (или пеpеpаботке перевода) корпуса, представленном в списке РHБ, собp. Вяземского, F.7, XVII в., все фрагменты, надписанные именем Иерофея, сведены воедино и находятся в одном месте рукописи. В противоположность процессу дифференциации образуя единое диалектическое целое, в литературной жизни корпуса происходил и обратный процесс интеграции, т. е. объединения вокруг произведений корпуса других текстов, приписанных Дионисию.
Таким образом, корпус сочинений Дионисия Ареопагита, как это ни парадоксально для произведения святоотеческой литературы, теряет отчетливую структуру и целостность. В строгом смысле, он даже перестает восприниматься как сборник постоянного состава, превращаясь в некое контекстуальное поле «Книги Дионисия Ареопагита» (такое определение, кстати, бытовало в Древней Руси), в котором сосуществуют разные произведения, живущие по своим законам и имеющие собственную рукописную традицию.
Список литературы О судьбе одного фрагмента корпуса Дионисия Ареопагита в древнерусской рукописной традиции
- Гpицевская И. М. (1993) «Индекс истинных книг в составе "Киpилловой книги"», Труды отдела древне-русской литературы (Санкт-Петербург) XLVI, 125-134
- Гольтц Г. (1979) «Божественный Дионисий на еретиков: странички из истории «Ареопагитик» у греков и славян», не опубл. машинопись
- Лурье Я. С., Рыков Ю. Д., сост. (1981, 19932) Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским (Москва)
- Пpохоpов Г. М. (1983) «Комплекс жанpов в коpпусе сочинений Дионисия Аpеопагита», Пpоблемы литеpатуpных жанpов (Томск)
- Соломоновская А. Л. (1995) «Некоторые наблюдения нал лексическими и другими особенностями разных переводов одного памятника», Язык памятников церковнославянской письменности (Новосибирск) 63-71
- Устрялов Н. (1868) Сказания князя Курбского (Cанкт-Петербург)
- Keipert H. (1976) «Velikij Dionisie sice napisa: Die Uebersetzung von Areopagita-Zitaten bei Euthymius von Tarnovo», Търновска книжовна школа, Т. II. (Втори международен симпозиум, Велико Търново, 20-23 май) 329-332
- Stählin K., hrsg. (1921) Der Briefwechsel Iwans des Schrecklichen mit dem Fürsten Kurbskij, Quellen und Aufsätze zur russischen Geschichte, H. 3 (Leipzig)