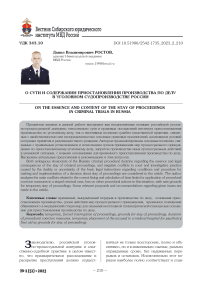О сути и содержании приостановления производства по делу в уголовном судопроизводстве России
Автор: Ростов Д.В.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 2 (51), 2023 года.
Бесплатный доступ
Предметом анализа в данной работе выступают как неоднозначные позиции российской уголовно-процессуальной доктрины относительно сути и правовых последствий института приостановления производства по уголовному делу, так и негативные коллизии судебно-следственной практики, связанные с двойственностью или неопределенностью основных правовых предписаний, касающихся условий и порядка принятия и реализации такого решения. Автором проанализированы основные коллизии, связанные с правильным установлением и исчислением сроков применения мер процессуального принуждения по приостановленному уголовному делу, запретом производства иных процессуальных действий в указанной ситуации, с новыми основаниями для временного приостановления производства по делу. Высказаны актуальные предложения и рекомендации в этих вопросах.
Временный, вынужденный перерыв в производстве по делу, основания приостановления производства, сроки действия мер процессуального принуждения, временное помещение обвиняемого в медицинский стационар для оказания неотложной психиатрической помощи как основание для приостановления производства по делу
Короткий адрес: https://sciup.org/140301939
IDR: 140301939 | УДК: 343.10 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_2_210
Текст научной статьи О сути и содержании приостановления производства по делу в уголовном судопроизводстве России
Законодателю, российской уголовно-процессуальной доктрине и следственно-судебной практике в целом известно, что предварительное расследование и раскрытие преступлений должно осущест- вляться не только всесторонне, полно и объективно, но и в максимально сжатые, реально оправданные сроки, без надуманных перерывов и остановок. Исключительно этот порядок наиболее полно соответствует и соци- ально-нормативному назначению уголовного судопроизводства России (ст. 6 УПК РФ), и принципу его разумного срока (ст. 6.1 УПК РФ), и подлинно эффективному обеспечению интересов и прав всех участников процесса, интересов государства и в целом гражданского общества (ст. 2 Конституции РФ).
Вместе с тем не менее известно, что при реальном расследовании преступлений и судебном рассмотрении (разрешении) дел нередко возникают такие обстоятельства объективного свойства, которые a priori препятствуют и эффективному производству по делу, и в целом движению процесса к его очередному этапу или стадии, когда без устранения этих препятствий или их максимальной минимизации нет возможности как реализации большинства следственных (познавательных) действий, призванных к установлению релевантно значимых обстоятельств дела (ч. 1 ст. 73 УПК РФ), так и осуществления ряда процессуальных действий, обязательных к реализации в рамках производства по делу. Именно для разрешения этих (объективно «препятствующих») ситуаций в российском уголовно-процессуальном законе, процессуальной доктрине и практике объективирован институт «приостановления производства по уголовному делу».
Оговоримся и в том, что доктрине российского уголовно-процессуального права отчасти известны дискуссии о том, насколько верно и правомерно одновременно исследовать и характеризовать данное правовое явление и в качестве самостоятельного уголовно-процессуального института [8, с. 4-5; 7, с. 15], и как особую процессуальную форму производства по делу [3, с. 77-80], и как непосредственно вид собственно уголовно-процессуальной деятельности [6, с. 119]. Мы сознательно откажемся от дискуссий и необоснованных повторов в этих моментах, так как считаем подобную постановку вопроса во многом надуманной. На наш взгляд, каждая из указанных категорий не исключает рациональности и необходимости другой, ибо, будучи диалектически взаимосвязанны- ми, они лишь максимально полно и объективно характеризуют все стороны и свойства исследуемого явления, формы его объективации в правовой реальности.
На самостоятельность, системность и комплексный характер этого процессуального института объективно указывают как нормы ст. 208-211, 238, ч. 3 ст. 253 УПК РФ, так и нормы ст. 78 УК РФ, а также нормы иных, не только федеральных, но и федеральных конституционных законов1.
Об особой процессуальной форме (надлежащем порядке) производства по приостановленному уголовному делу весомо свидетельствуют оговорки закона относительно общих и специальных условий принятия такого решения, формы отношений и усилий следственных, оперативных и иных государственных органов, в том числе призванных к устранению препятствий к дальнейшему движению процесса.
Об измененном характере собственно уголовно-процессуальной деятельности свидетельствует перенос основных усилий следственных и правоохранительных органов государства в область розыскных, оперативно-разыскных и иных неследственных мероприятий.
Как следствие, мы будем в той или иной мере последовательно и диалектически взаимосвязано апеллировать к каждой из названных сторон исследуемого явления с тем, чтобы максимально полно и точно раскрыть его сущность, нормативное содержание и назначение в уголовном судопроизводстве России.
Обращаясь к понятию и основным признакам исследуемого института, большинство авторов считают актуальным и значимым прежде всего подчеркнуть признаки (свойства), согласно которым, исследуемое явление:
это временный вынужденный перерыв в производстве расследования (судебного рас-смотрения/разрешения дела), в производстве следственных (или в целом процессуальных) действий, в движении дела (процесса в целом) к очередному процессуальному этапу или стадии;
перерыв, вызванный объективными препятствиями, как правило, связанными с невозможностью участия обвиняемого, подозреваемого в производстве следственных или (обязательных для него) процессуальных действий, до полного устранения или минимизации этих препятствий;
при этом указанный перерыв сущностно связан с изменением режима осуществляемой деятельности , с доминантным переносом реализуемых отношений из сферы строго процессуального характера в область розыскных, оперативно-разыскных, иных неследственных мероприятий [6, с. 118; 4, с. 17-21].
Отдельные авторы, правда, пытаются подчеркнуть тавтологию в одновременном указании в определении и на сам «перерыв», и на его «временный» характер, поскольку они полагают, что уже первый термин достаточно полно характеризует как сам перерыв (остановку) в производстве по делу, так и его временной характер [13, с. 432]. Мы, напротив, уверены, что акцентуации на временном характере принятого по делу решения методологически и методически правильны. Более того, изначально подчеркивая неокончательную суть принятого решения, незавершенность производства по делу, именно временной акцент призван постоянно «напоминать» следственным и контрольным органам о максимальной активизации усилий по устранению препятствий к возобновлению этого производства, о достижении непосредственных задач и целей процесса. И, напротив, нередко, наличествующая в следственной практике «забывчивость» во временном характере приостановки производства по делу в итоге приводит к негативным последствиям как в целом для «забытого» дела, так в плане обеспечения основных прав участников процесса.
В контексте строгости и операционально-сти доктринальных определений нас более интересуют подходы доктрины и практики к сути и правовым следствиям указанного перерыва в производстве по уголовному делу. Поясним данную постановку вопроса:
Обратимся, к примеру, к позициям С.Б. Россинского, который давно и достаточно последовательно утверждает, что приоста- новление производства по уголовному делу – однозначно перерыв не только в производстве следственных и процессуальных действий, а равно в принятии процессуальных решений, но и временное приостановление досудебных уголовно-процессуальных отношений [12, с. 477, 479; 9, с. 372]. Как следствие, единственно, что возможно, по мнению этого автора, в рамках приостановленного производства, – это осуществление иных неследственных мероприятий, направленных к устранению препятствий, вызвавших такое решение. Соответственно, восстановление указанных процессуальных отношений происходит лишь одновременно с принятием решения о возобновлении производства по делу (ст. 211 УПК РФ) [12, с. 479, 480].
На временном прекращении указанных правовых отношений и однозначном запрете производства не только следственных, но и иных процессуальных действий по приостановленному производству настаивает в своем определении и В.О. Белоносов [1, с. 175].
Более аккуратны в этом вопросе авторы «Курса уголовный процесс» под редакцией Л.В. Головко, которые в принципе не ставят вопрос о прекращении уголовно-процессуальных отношений по приостановленному уголовному делу. Вместе с тем исследователи также настаивают на том, что важным последствием приостановления производства по уголовному делу является абсолютный запрет на осуществление следственных и иных процессуальных действий , а равно на вынесение процессуальных решений , до возобновления производства по делу. Основанием констатации этого вывода служат нормы ч. 3 ст. 209 УПК РФ, к которым они апеллируют [5, с. 383, 387].
Интересной позиции придерживается в этом вопросе А.В. Гриненко. Данный исследователь – один из немногих (в российской уголовно-процессуальной доктрине), кто утверждает, что в рамках приостановленного производства по делу не только не проводятся процессуальные действия, но и не текут процессуальные сроки [2, с. 213]. Касается это утверждение исключительно суммарных сроков предварительного следствия (ст. 162
УПК РФ) и дознания (ст. 233 УПК РФ) или этот запрет распространен на все процессуальные сроки; в том числе связанные с реализацией мер процессуального принуждения в рамках приостановленного производства, автор, отметим, не поясняет.
Качественно иной позиции по сути приостановления уголовного дела придерживается А.О. Машовец, по мнению которой указанное решение означает только временный перерыв в уголовно-процессуальном доказывании [13, с. 433].
Из аналогичных по смыслу подходов исходят авторы учебника «Уголовный процесс» под общей редакцией А.Д. Прошлякова, В.С. Балакшина, Ю.В. Козубенко. Авторы акцентируют внимание на том, что решение о приостановлении производства по делу прежде всего прерывает уголовно-процессуальную деятельность по доказыванию обвинения. При этом, как они поясняют, продолжается реализация действий неследственного характера, связанных с устранением препятствий к полному и всестороннему производству по делу [13, с. 433].
«Осторожничает» в исследуемых моментах и А.С. Шагинян, который утверждает, что в рамках приостановленного уголовного дела допускается производство иных процессуальных действий; но только тех, которые направлены на устранение причин, вызвавших принятие такого решения [14, с. 260]. Отдельно укажем, что меры по розыску или установлению обвиняемого (в контексте норм пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), автор считает вполне процессуальными и изначально легальными.
Более детально обратимся к позициям А.В. Смирнова и К.Б. Калиновского, которые одновременно и интересны, и противоречивы по сути. Поясним. С одной стороны, авторы утверждают, что приостановление производства по уголовному делу – это временный перерыв в производстве процессуальных действий. С другой, буквально в следующем абзаце работы, оговариваются, что процессуальная деятельность продолжается, но в особых процессуальных формах [11, с. 411, 446]. В каких именно, авторы поясняют буквально через две страницы цитируемой работы: в рамках приостановленного производства следователь вправе лишь истребовать и принимать представленные предметы и документы [11, с. 448].
В более позднем издании (2023 г.) эти же авторы как бы «смягчают» свои подходы, к примеру, указывая на то, что временный перерыв (исследуемый запрет. – Д.Р.) касается производства лишь принудительных процессуальных действий [10, с. 508]. Более или менее ясный перечень последних при этом не раскрывается и авторами не комментируется. Еще через пару страниц авторы «возвращаются» к исходным утверждениям, настаивая на запрете в целом уголовно-процессуальной деятельности [10, с. 513].
Однако буквально через абзац вновь пишут о том, что «содержание уголовно-процессуального производства по приостановленному делу составляет собирание доказательств путем истребования и принятия представленных предметов и документов (ст. 86 УПК РФ)» [10, с. 513]. Процессуальные формы указанного «принятия» и «истребования» раскрываются исследователями через: получение объяснений, направление запросов, получение справок и заключений специалиста, дачу тех или иных поручений органу дознания.
В итоге для задач исследования, прежде всего, акцентируем суждение авторов как об уголовно-процессуальном характере деятельности следственных органов по приостановленному производству, так и о неразрывной связи указанной деятельности непосредственно с практическим процессом доказывания. Для нас принципиально важно, что процесс доказывания, как суть и основа всей уголовно-процессуальной деятельности, имеет место и на этом этапе. Причины указанного в том, что (озвученные) «позиции» доктрины весьма широко восприняты и «одобрены» непосредственно российской следственной практикой. В ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов твердо уверены в том, что даже выполнение следственных поручений об установлении лица, причастного к преступлению (п. 1 ч. 1
ст. 208 УПК РФ) или розыске обвиняемого, подозреваемого (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) может иметь место со стороны сотрудников оперативных служб только при наличии соответствующего дела оперативного учета. В качестве основы данной уверенности, как правило, приводится «общеизвестный» тезис о «законодательном запрете» на производство любых процессуальных действий по приостановленному производством делу. В итоге необходимо теоретически и практически разобраться в этом значимом для следственно-судебной практики моменте. И, прежде всего, апеллируем к букве закона.
Нормы ч. 3 ст. 209 УПК РФ, к которым в большинстве своем апеллируют исследователи, однозначны в этом вопросе, запрещая производство по приостановленному делу исключительно следственных (познавательных) действий. Их сущность и перечень достаточно известны российской доктрине и непосредственно судебно-следственной практике. Как следствие, мы оставляем эти моменты без рассмотрения. Нам принципиально иное: ни в одной из норм как собственно института приостановления производства по делу, так и всей системы норм УПК РФ нет ни упоминания, ни даже намека на то, что указанный запрет касается реализации иных процессуальных действий. Напротив, закон и ряд представителей уголовно-процессуальной доктрины однозначны в констатациях о продуктивности и даже императивности активной реализации комплекса действий, направленных на установление или розыск (скрывшегося) обвиняемого (п.п. 1-2 ч. 2 ст. 209 УПК РФ). И то, что большинство указанных мер, реализуясь в согласованности с комплексом собственно розыскных мер и мер оперативно-разыскного характера, никак не теряют своей самостоятельности и процессуальной сути, уже практически не подвергается сомнению в доктрине и практике.
Во-вторых, по нормам ч. 1 ст. 209 УПК РФ все заинтересованные участники процесса (за установленным законом изъятиями) в обязательном порядке уведомляются о факте временного приостановления производства по делу; одновременно им разъясняется пра- во и порядок обжалования такого решения в порядке гл. 16 УПК РФ. Закономерно поставим вопрос: рассмотрение и разрешение указанных жалоб, принятие по ним (значимых) процессуальных решений, в том числе в порядке ст. 125 УПК РФ, осуществляется в непроцессуальном порядке; за рамками уголовно-процессуальных отношений?
В-третьих, розыск обвиняемого, подозреваемого по нормам ч. 2 ст. 210 УПК РФ, реализуемый в том числе посредством активных действий, процессуальных запросов и решений следователя, также реализуется вне уголовного процесса, процессуальных отношений и актов? В таком случае насколько обязательны эти акты для исполнения всеми государственными органами и должностными лицами? Насколько они могут и должны быть обеспечены принудительной силой государства.
В-четвертых, по ч.ч. 6 и 7 ст. 208 УПК РФ по приостановленному уголовному производству обеспечивается выполнение мер, связанных с соблюдением законности и обоснованности длящейся реализации такой меры процессуального принуждения, как наложение ареста на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону ответственность за его действия. Практике, напомним, широко известны акты в части обжалования и судебной проверки законности применения (продления срока реализации) указанных мер; а равно обжалования и проверки, принятых по этому факту судебных решений в судах вышестоящих инстанций. Это также не уголовный процесс и за рамками уголовно-процессуальных отношений?
Ответы представляется, очевидны, и именно они точно и практически значимо расставляют акценты в этих вопросах. Приостановление производства по делу не исключает возникновения и реализации, имеющихся и новых уголовно-процессуальных отношений по делу. Нет оснований к тому, чтобы процесс искусственно и надуманно был «временно», но полностью остановлен исключительно по причине того, что нормы ч. 3 ст. 209 УПК РФ субъективно и чрезмерно широко понимаются определенной частью представителей доктрины и практики. Как следствие, в соответствии с социально-нормативным назначением уголовного судопроизводства России субъективный момент усмотрения органов и должностных лиц, ведущих процесс, в этом вопросе должен быть сведен к минимуму, ограничен волей закона. В связи с этим мы считаем оправданным и актуальным для практики предложить изменения в действующий уголовно-процессуальный закон, дополнив статью 209 УПК РФ частью четвертой в следующей редакции: «Приостановление производства по уголовному делу не является препятствием для производства иных процессуальных действий, связанных с деятельностью и актами следователя по устранению препятствий к дальнейшему производству по делу; обжалованием и разрешением жалоб на акты, связанные с приостановлением данного производства; получением и формированием сведений, направленных на исследование обстоятельств, подлежащих установлению в соответствии с частью 1 статьи 73 настоящего Кодекса. Производство процессуальных действий и принятие властно-распорядительных актов со стороны государственных органов и должностных лиц, ведущих процесс, возможны, если это реализуемо в отсутствие обвиняемого, подозреваемого, и не связано с применением мер процессуального принуждения к иным участникам процесса».
Список литературы О сути и содержании приостановления производства по делу в уголовном судопроизводстве России
- Белоносов, В.О. Уголовно-процессуальное право. Ч. 1: Досудебное производство: учебное пособие / В.О. Белоносов. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. – 200 с.
- Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум для вузов / А. В. Гриненко. – 8-е изд. перераб и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 364 с.
- Ефимичев, С. Некоторые вопросы приостановления предварительного расследования / С. Ефимичев, П. Ефимичев // Уголовное право. – 2005. – N 3. – С. 77-80.
- Клюкова М.Е., Малков В.П. Приостановление дела по уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации / М.Е. Клюкова, В.П. Малков. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1993. – 175 с.
- Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – М.: «Статут» 2016. – 1278 с.
- Ломовский, В.Д. Вопросы приостановления производства по уголовному делу в советском уголовном процессе / В.Д. Ломовский // Правоведение. – 1962. – N 6. – С. 118-120.
- Моисеев, Н.А. Приостановление уголовных дел как институт уголовного процесса / Н.А. Моисеев, О.Н. Скоморохов, А.В. Чурсин // Наука. Теория. Практика. – 2009. – N 2. – С. 15-19.
- Репкин, Л.М. Законность и обоснованность приостановления предварительного следствия: автореф. дис. …канд. юрид. наук / Л.М. Репкин. – М., 1973. – 28 с.
- Россинский, С.Б. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: ЭКСМО, 2009. – 736 с.
- Смирнов, А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 8-е изд., перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2023. – 784 с.
- Смирнов, А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А. В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с.
- Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 1008 с.
- Уголовный процесс / под ред. А.Д. Прошлякова, В.С. Балакшина, Ю.В. Козубенко – М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 888 с. – DOI 10.12737/1699408
- Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / под ред. А.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко и др. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 445 с.