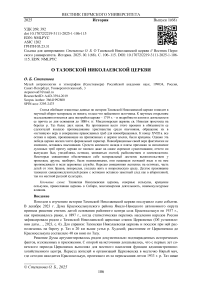О Тазовской Николаевской церкви
Автор: Степанова О.Б.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Археология и этнология
Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья обобщает известные данные по истории Тазовской Николаевской церкви и вводит в научный оборот материалы из нового, только что найденного источника. К научным открытиям исследования относятся дата постройки церкви – 1719 г. – и подробности жизни и деятельности ее причта со дня основания до 1880-х гг. Миссионерская церковь св. Николая простояла на берегах р. Таз более двух веков. На протяжении всего этого времени в обязанности ее служителей входило проповедование христианства среди язычников, обращение их в «истинную» веру и совершение православных треб для новообращенных. К концу XVIII в. все остяки и юраки, проживающие на приписанных к церкви землях, были крещены. Однако эта победа церкви носила чисто формальный характер. Новообращенные своей вере фактически не изменяли, оставаясь язычниками. Средств казенного оклада и платы прихожан за исполнение духовных треб причту церкви не хватало даже на самое скромное существование, отчего он вынужден был, уподобляясь остякам, заниматься охотой, рыболовством и оленеводством. Некоторые священники обеспечивали себе материальный достаток вымогательством у прихожан, другие, наоборот, были подвижниками, они осваивали остяцкий язык и на нем проповедовали и вели церковные службы. Нередко священники женились на остячках, часть детей от этих браков, повзрослев, уходила жить в инородческую среду. Долгое проживание тазовских священнослужителей рядом с остяками оставило заметный след как в аборигенной, так и в местной русской культурах.
Тазовская Николаевская церковь, северные селькупы, крещение селькупов, православная церковь в Сибири, миссионерская деятельность, взаимокультурные влияния
Короткий адрес: https://sciup.org/147247322
IDR: 147247322 | УДК: 269; 392 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-106-115
Текст научной статьи О Тазовской Николаевской церкви
Поводом к изучению истории Тазовской Николаевской церкви послужило одно событие. В декабре 2023 г. Дума Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа приняла решение считать датой основания районного центра села Красноселькуп не 1937 г., как признавалось ранее, а 1897 г., когда статистическая перепись населения народов России зафиксировала рядом с Тазовской Николаевской церковью станок Церковенск (Об установлении даты…, 2023, с. 6). Для справки: Тазовская Николаевская церковь и поселок при ней располагались на берегу р. Таз в 20 км выше устья р. Худосей; расстояние от Церковенска до Красноселькупа составляло 40 км вниз по Тазу.
Решение Думы аргументировалось рядом документально подтвержденных исторических фактов, изложенных в приложении. С опорой на источники доказывалось, что с первых лет советского периода Церковенск выполнял для местного населения функции административнохозяйственного центра. Переезд жителей и организаций Церковенска в местечко Нярый мач, где сегодня находится Красноселькуп, произошел из-за пересыхания летом 1933 г. р. Таз ниже
расположения Церковенска, что вызвало трудности с завозом товаров. В 1937 г. при разукрупнении Туруханского района и выделении из него Красноселькупского национального района с центром в Церковенске станок Церковенск был переименован в село Красноселькупское. Имело место лишь переименование, а не образование нового села (Приложение…, 2023, с. 7).
То, что администрация Красноселькупского района в текущий момент состарила районный центр село Красноселькуп на 40 лет, говорит о востребованности здесь исторических изысканий, в первую очередь в направлении, связанном с Тазовской Николаевской церковью. Новость от Красноселькупской думы выявила значение Тазовской церкви для истории района, истории и этнографии северных селькупов, для которых Красноселькупский район является основным местом проживания.
Сколько-нибудь подробного исследования о деятельности Тазовской церкви до сих пор не проводилось. Рассмотрение вопроса опиралось на статьи научного сборника «Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири (вторая половина XIX – начало ХХ вв.)», изданного коллективом сотрудников отдела Сибири МАЭ РАН в 1979 г. Содержание сборника определило основные направления работы над темой, а именно: обобщение всех имеющихся сведений по истории миссионерства на территории проживания северных селькупов, включая ввод в научный оборот новых данных, изучение взаимодействия миссионерских церквей с аборигенным населением и влияния, которое они оказывали друг на друга.
Результаты
В отношении источников исследования нужно сказать, что сохранилось множество упоминаний о Тазовской церкви в трудах разного рода ученых-путешественников, так как она долгое время служила одним из главных географических ориентиров Тазовской тундры, однако лишь некоторые из них представляют ценность. Первые сведения о церкви оставил Г. Ф. Миллер в описании маршрутов своих путешествий во время Второй Камчатской экспедиции, эти сведения датируются 1739‒1740 гг. Он пишет: «Рч. Tat-potschel-ki, с правой стороны, в 8 днях пути от рч. Григорки. На ее устье находится Худасейский погост с построенной для тамошних остяков1 церковью, которая посвящена Св. Николаю. При ней, кроме церковных служителей, никто не живет. Река Худасея, которая дала название предыдущему погосту, впадает с правой стороны, в 1/2 дня пути от этого погоста. Досюда простираются по р. Тазу места обитания остяков, относящихся к Сургутскому уезду» [ Миллер , 1996, с. 211].
Тазовская Николаевская церковь возвышалась над водами Таза долго, около двух веков: в 1927‒1928 гг. здание церкви еще стояло, в нем жил секретарь местного родового Совета (Приложение…, 2023, с. 7). В январе 1913 г. через церковь пролегал путь финского ученого К. Доннера. По его сведениям, она была пустой и заброшенной: рядом не было «ни священника, ни христиан, и хозяйничал самоедский шаман» [ Доннер , 2008, с. 91]. Сражаясь с сумасшедшим холодом, Доннер несколько дней жил в единственном доме рядом с церковью – «убогой деревянной лачуге» [Там же]. Сделанный Доннером снимок церкви опубликован в его книге «У самоедов Сибири», посвященной экспедициям [Там же, с. 90]. Кроме этого снимка, известно еще одно фото Тазовской церкви, датированное зимой 1900 г., оно «гуляет» в Интернете по разным сайтам (Церковь Николая Чудотворца, эл. ресурс), и его источником называются фонды Красноярского музея. На этом фото датой постройки церкви неверно указывается 1813 г.2
В 1914 г., на год позже Доннера, через Тазовскую церковь проезжал исследователь И. Н. Шухов. В фондах Кунсткамеры есть его фотография иконы Николая Чудотворца из Та-зовской церкви. О населении места, где находилась церковь, Шухов написал, что там «живет священник-миссионер, псаломщик и трапезник; зимой здесь ютятся в землянках остяки Тым-ско-Карагонского рода» [ Шухов , 1915, с. 42].
К запискам ученых-путешественников следует отнести материалы историка, этнографа и антрополога А. П. Щапова, собранные им во время экспедиции 1866 г. в Туруханский край, предпринятой им для изучения «бродячего» населения берегов Енисея. Они содержатся в статье «Историко-географические и этнологические заметки о Сибирском населении», опубликованной дважды, в 1872 и 1927 гг., но широкой известности среди этнографов и краеведов до сих пор не имеют. Щапов освещает брачно-родственные связи причта Тазовской церкви с аборигенным населением и пишет о влиянии, которое оно оказывало на русских туруханских жителей.
Этнограф П. Е. Островских, служивший в 1899‒1904 гг. помощником податного инспектора по Туруханскому краю, в работе «Баишенские «остяки» (остяко-самоеды) Туруханского края в конце XIX в.» (1931) сообщает о тазовском дьяконе, обогащавшемся за счет своих прихожан, и эксплуатации остяков церковнослужителями. Подробнее о материалах Щапова и Островских будет говориться ниже.
Самым емким по содержанию и только что найденным источником, который данной статьей вводится в научный оборот, является публикация священника Павла Герасимова «О Та-зовском приходе», в трех частях, вышедшая в 1877 и 1880 гг. в газете «Иркутские епархиальные ведомости». Именно она возглавит изложение и анализ всех собранных о Тазовской церкви сведений. Ценность ее состоит прежде всего в том, что в ней называется до сих пор неизвестная, но очень интересующая сибиреведов, селькуповедов и нынешнее руководство Красноселькупского района дата первой постройки Тазовской церкви.
Перечисление событий, приведших к появлению Тазовской церкви, Герасимов начинает с основания Мангазеи – города, возникшего на берегах Таза в 1600 г. и ставшего форпостом русских в продвижении вглубь Сибири. Он пишет, что население Мангазеи быстро росло, и для удовлетворения его духовных треб в городе были возведены два храма. «С первых же дней» русские стали проявлять заботу о том, чтобы жившие на р. Таз инородцы – остяки и юраки – «склонили свои выи под благое иго Христа, Царя небесного» ( Герасимов , 1877, с. 191). Юраки, по словам автора, отличались от тихих, уступчивых и вялых остяков воинственным духом и грубым нравом. Подчиненные русским оружием, они, проявляя внешнюю покорность, затаили ненависть к завоевателям, которая усугублялась жестоким обращением с ними корыстолюбивых воевод. Ненависть к поработителям юраки перенесли на веру их, чем свели на нет надежду на скорое распространение христианства среди инородческого населения Таза (Там же, с. 191‒194, 198).
Далее автор несколько искажает историю Мангазеи, преувеличивая роль юраков в оставлении города, называя спорную дату рокового пожара и др., что можно ему простить, так как не она в данном случае служит объектом исследования. В 1649 г., как излагает Герасимов, охваченные мщением юраки подожгли город. В результате пожара уцелела только незначительная часть построек и церкви. Погорельцы нашли приют в Туруханском зимовье, основанном в 1607 г. на Енисее. Неприязненные отношения с юраками и «отдаленность города от вновь завоеванных мест» заставили правительство «закрыть сей город». В 1662 г. жителям Мангазеи было приказано переселиться в Турханское зимовье, которое с того времени стало называться городом Туруханском, или Новой Мангазеей. Некоторые жители «медлили с переселением немалое время», не желая расстаться с обретенными здесь мощами блаженного Василия. В 1670 г. мощи были перенесены в Троицкий монастырь на устье Нижней Тунгуски (построен в 1660 г.). Когда «все нити, прикреплявшие к местности, разорвались, и дальнейшее пребывание среди враждебного народа оказалось, по малолюдству, небезопасным, совершилось и окончательное переселение жителей» (Там же, с. 194‒196). Несколько десятилетий свидетелями существования города оставались пустые здания и церкви, но затем и их уничтожило время.
Первая попытка христианизации инородцев Таза не удалась, но не прошла даром, как считает Герасимов. «Во всяком случае, 70-летнее существование между ними христианского города не могло не остаться без всяких последствий. В это время инородцы, хотя и не все, могли достаточно ознакомиться с истинами спасительной веры, равно с ее богослужением» (Там же, с. 198‒199). Неизбежность второй попытки была очевидна, так как существовало опасение, что по уходу русских с Таза поверхностное знакомство инородцев с христианством могло со временем смениться его полным забвением.
Толчком ко второй попытке, по свидетельству автора, стало известие о переходе в 1713‒1715 гг. в христианскую веру целыми семьями инородцев, кочевавших около городов Березова и Сургута (тогда «среди них явились и церкви»). Имелся также расчет на следование тазов-ских инородцев примеру сургутских, «с которыми они были в сношениях» (Там же, с. 199).
В 1719 г. на Таз «явился проповедник слова Божьего». Автор пишет: «Это был маститый старец, одним видом внушавший к себе почтение. Филофей3 в схиме Феодор, Митрополит Тобольский и Сибирский. Отправившись из Тобольска, рр. Иртышем и Обью, Преосвященный через Обскую и Тазовскую губы вошел в р. Таз и остановился на месте погорелого города Ман-газеи, куда собраны были гражданским начальством и инородцы. Возвещенное им Слово Божье оказалось действенным в сердцах инородцев-остяков Караконского рода. Как велико было число сих новопросвещенных, за неимением данных, сказать положительного ничего нельзя, но надо думать, что численность их была значительна, потому что Преосвященный Филофей озаботился построить для них церковь во имя Святителя Николая Чудотворца, которая стояла при той же р. Таз, и, кажется, на месте, где существует и настоящая церковь» (Там же, с. 199). Далее автор сообщает, что приход Тазовской церкви был открыт в том же 1719 г., причт ее состоял из священника, дьячка и пономаря. Содержание причту, по указу Петра I от 1 сентября 1720 г., производилось из казны Его Императорского Величества ( Герасимов , 1880 а , с. 39; 1880 b , с. 49). Этими сообщениями исторические хроники Красноселькупского района и селькупов обретают неопровержимую дату появления на р. Таз Николаевской церкви – 1719 г.
Публикация Герасимова содержит ценные сведения о миссионерских церквях в пограничных районах расселения тазовских остяков: в 1719 г. одновременно с Тазовским приходом открылся приход в зимовье Инбацком4. В 1751 г., после того, как в течение 30 лет, с 1720 по 1750 г., тазовскими священниками В. Н. и В. Я. Поповыми были «просвещены» остяки, кочевавшие в верховьях Таза, и Сургутское духовное правление сочло, что ездить в Тазовскую церковь им слишком далеко, Преосвященный Сильвестр, митрополит Тобольский и Сибирский, «благословил» построить для них церковь; священнику В. Н. Попову было выдано предписание «в скорости» заготовить лес для ее возведения ( Герасимов , 1877, с. 200). Однако, как известно из других источников, церковь эта – Знаменская церковь в с. Ларьяк, расположенном в среднем течении р. Вах, ‒ появилась лишь спустя 20 лет, в 1772 г., а в 1751 г. близ юрт Ларьякских была возведена часовня ( Ярыгина , 2021, с. 3). Герасимов пишет, что в 1790-х гг. Тазовская и Знаменская церкви соперничали за то, чтобы иметь верхнетазовских остяков в своем приходе, и духовное начальство несколько раз передавало их от одной церкви к другой5 ( Герасимов , 1880 b , с. 52‒54).
Вторая часть публикации, вышедшая в январе 1880 г., посвящена материальной стороне жизни причта Тазовской церкви. В 1720 г. он получал жалование из государственной казны, священнику платили больше дьячка, дьячку – больше пономаря. Жалованье должно было состоять из денежного довольствия и хлеба, но из-за отсутствия хлебопашества в Туруханском крае за хлеб выдавалась денежная компенсация. Предполагалось, что «оклад сей, кроме верности обеспечения, мог быть достаточным только в соединении с другими источниками» ( Герасимов , 1880 а , с. 40). Приход Тазовской церкви составляли исключительно инородцы, они должны были платить за «исправление треб» вместо денег «звериными шкурами», однако пушной промысел зависел от «урожайности» зверя, поэтому плата пушниной не была надежным источником дохода. По примеру прихожан, причт, заботясь о себе, сам занимался пушным промыслом, «хотя занятие это и не соответствовало его званию и не всегда вознаграждало его труды» (Там же). Равно и рыбная речка не могла приносить много пользы, так как сбыта рыбы на Тазу не было, и потребление ее оставалось только домашним (Там же).
В XIX столетии вследствие неблагоприятных условий для хлебопашества в плодородных местах губернии цена на хлеб все время возрастала. Несмотря на прибавки, размер оклада священнослужителей был недостаточным даже для одного человека, в то время как все члены причта имели семьи. «Пособия» со стороны прихожан причту ожидать не приходилось, поскольку из-за значительной между ними смертности от голода (1805 г.), кори (1807 г.), оспы (1808 г.) и горячки (1817 г.) промысел зверя почти остановился, и они сами брали себе хлеб из казенных магазинов в долг, «хотя при этом немалая часть их подверглась голодной смерти (1815 г.)» (Там же, с. 41).
В таких обстоятельствах причт вынужден был найти другие, не вполне законные, источники своего обеспечения. «Причт основал свои виды на своих обязанностях, как служителей и строителей Тайн Божьих» – занялся вымогательством у прихожан (нередко с применением фи- зического насилия), потворством их «слабостям», сокрытием их «грехов» и даже преступлений, с корыстной целью, надеясь, что эти действия останутся неизвестными. Герасимов приводит несколько примеров противозаконных дел, тех, что все-таки вскрылись и дошли до суда епархиального начальства, которое рассматривало их дважды, в 1823 и 1832 гг. В обоих случаях виновные священники не лишились своего места, вероятно, потому, что начальству трудно было «приискать преемника, но и найдя такового, оно не могло положить преграды к возобновлению противозаконных действий причта, средства которого по обстоятельствам времени были весьма ограничены» (Там же, с. 41‒43). В ходе второго разбирательства был возбужден вопрос о сохранении самостоятельности прихода Тазовской церкви. После долгих дебатов, имея в виду отдаленность Тазовского прихода от других приходов, затруднительность сообщения с ними, равно как и самих прихожан, состоящих из одних бродячих инородцев и, следовательно, требующих бдительного надзора церкви, постановили оставить приход самостоятельным, а также просить Святой Синод об увеличении оклада причта по всей губернии (Там же).
В то же время епархиальное начальство «исходатайствовало» у местной гражданской власти разрешение духовенству Туруханского края брать хлеб из хлебозапасных магазинов. Прежде причт Тазовской церкви, «имея хлеб под рукой»6, и за деньги не мог купить его, а должен был ехать за хлебом в расположенный в 500 верстах Туруханск и покупать его у частных торговцев по цене, назначенной ими, влезать для этого в долг, который год от года увеличивал-ся7. С новым распоряжением, достаточно было «сказать только слово вахтеру, и хлеб был готов, и цена его известна» (Там же, с. 43‒44).
В 1839 г. Енисейское духовное правление увеличило причтам оклад, но это не улучшило материальное положение духовенства из-за нового витка повышения цен на хлеб. Причт Николаевской церкви, не имея в тот момент пономаря, возвращал его жалование в правление, как полагалось, но впоследствии стал делить средства поровну между оставшимися членами. Сначала начальство требовало немедленного возврата денег, но потом смирилось со своей потерей (Там же, с. 44‒45).
В 1849 г. туруханский отдельный заседатель постановил отпускать хлеб из казенных магазинов только при условии оплаты натурой (т.е. тем же хлебом), деньгами или рухлядью в назначенный срок, по истечении которого при неуплате сумма долга вычиталась из жалованья, и дальнейшая выдача становилась невозможной. В 1850 г. было объявлено, что выдача хлеба в долг прекращается. Жалованья причту не хватало, пушнина отсутствовала: прихожане десятками умирали от горячки (1847 г.), язвы (1849 г.), голода (1847 г.) и оспы (1850 г.). «С великим усилием причт мог испрашивать себе хлеб свыше денежной суммы, причитающейся за оный» (Там же, с. 46).
Несмотря на новое повышение окладов (в 1852 г.), положение туруханского духовенства оставалось тягостным, поэтому в 1863 г. епархиальное начальство для помощи ему открыло по всей епархии кружечный сбор и в счет него из сумм епархиального попечительства получило 650 рублей серебром, на которые в г. Енисейске было закуплено до 700 пудов ржаной муки и до 900 пудов муки пшеничной. Распределением хлеба по церквям – в равных частях – поручили заниматься игумену Туруханского Троицкого монастыря. Кружечный сбор продолжался почти до 1873 г. (Там же, с. 46‒47).
В 1873 г. штат причта Тазовской церкви сократили до двух лиц – священника и псаломщика. В заключение этой части публикации автор замечает, что из-за отсутствия сенокосной земли вместо коров и лошадей в хозяйствах причта использовались олень и собаки, а тесные и ветхие дома, в которых жили священнослужители, построили для них прихожане8 (Там же, с. 47‒48).
Дополнением к изложенным сведениям может служить сообщение Островских, также характеризующее материальное положение причта Тазовской церкви, но в более позднее время; оно относится к 1899‒1904 гг. – периоду службы ученого в Туруханском районе. Островских пишет, что тазовский диакон-катехизатор Мелентов владел стадом в 130 голов оленей и вел обширную торговлю. Летом «беспримерный грабитель» Мелентов возил на Таз сотни килограммов груза, и остякам за символическую плату приходилось бечевой тянуть огромную грузовую лодку вверх по р. Турухану, от Туруханска и далее на запад, перетаскивать лодку воло- ком на притоки Таза [Островских, 1931, с. 167, 172]. Таким образом, на рубеже XIX и ХХ вв. причт Николаевской церкви обеспечивал себе безбедное существование сам и по-прежнему использовал при этом незаконные способы.
Третья часть публикации о приходе Тазовской церкви, вышедшая в феврале 1880 г., также содержит сведения, имеющие большое значение для истории района, селькупской истории и этнографии. Автор приводит список священников прихода, первым из которых был Василий Никифорович Попов, он служил в приходе 22 года – с 1719 по 1741 г. Из списка видно, что некоторые священники, дьячки и пономари служили семьями; в перечне выделяются династии Поповых, Кайдаловых и Кандаковых. Обычаями того времени священникам разрешалось временно иметь в клире своих детей в возрасте от 10‒12 лет, обученных чтению, пению и письму, по достижении более зрелого возраста они «могли быть определяемы действительными пономарями и дьячками». В 1875‒1879 гг. священником Тазовского прихода служил М. И. Суслов9 ( Герасимов , 1880 b , с. 49‒51).
В обязанности причта входила веропроповедническая деятельность по «просвещению св. крещением язычествующих инородцев юрацкого племени» и остяков караконских и тымских, а также по «утверждению новокрещенных прихожан в истинах христианской веры и жизни» (Там же). Однако публикация вмещает численные данные о крещении только священниками А. В. Верещагиным и сменившим его И. Александровским в период с 1817 по 1863 г.
О численности прихожан с начала возникновения прихода и до конца XVIII столетия, т.е. в течении 80 лет, при церкви сведений не осталось (архивные дела за это время были пущены кем-то из причта на топку печи в своем доме, в 1864‒1866 гг.). После этого «истребления» сохранились документы, хотя и не все, только XIХ столетия. По исповедным записям за 1800 г., в приходе Тазовской церкви значилось более 1000 душ обоего пола: «Остяков тымских 32 чума с 226 м.п., 233 ж.п., кароконских 22 чума с 186 м.п., 145 ж.п.; всего остяков 412 м.п., 378 ж.п.; юраков 17 чумов с 111 м.п., 105 ж.п. об. пол. 216 душ, а тех и других 1006 душ» (Там же, с. 51‒52). Численность эта в последующие годы постоянно уменьшалась, и на август 1879 г. не превышала 600 душ обоего пола (Там же).
Герасимов называет два фактора уменьшения прихода: отчисление некоторой части прихожан в приход Знаменской церкви в с. Ларьяк и значительную смертность между ними. Причинами смертности указываются оспа, горячка, корь, язва и другие болезни, голод (включая происходящее от голода людоедство), а также непредвиденные обстоятельства: гром, холод и пр. Согласно метрическим книгам Тазовской церкви, в Тазовском приходе за период с 1800 по 1866 г. умерло:
‒ от старости – 165 чел.,
‒ во младенчестве – 119 чел.,
‒ от оспы (1808 г.) – 33 чел.,
‒ от оспы (1829 г.) – 169 чел.,
‒ от оспы (1850 г.) – 110 чел.,
‒ от горячки (1817 г.) – 24 чел.,
‒ от горячки (1832 г.) – 17 чел.,
‒ от горячки (1839 г.) – 10 чел.,
‒ от горячки (1842 г.) – 20 чел.,
‒ от горячки (1847 г.) – 29 чел.,
‒ от кори (1807 г.) – 15 чел.,
‒ от кори (1852 г.) – 22 чел.,
‒ от язвы (1849 г.) – 16 чел.,
-
‒ от водянки – 16 чел.,
-
‒ от чахотки – 68 чел.,
-
‒ от сифилиса – 16 чел.,
-
‒ убито деревом – 1 чел.,
-
‒ убито громом – 4 чел.,
-
‒ убито людьми – 1 чел.,
-
‒ внезапно умерло – 23 чел.,
-
‒ утонуло – 18 чел.,
-
‒ сгорело – 3 чел.,
-
‒ заблудилось – 8 чел.,
-
‒ замерзло (1815 г.) – 3 чел.,
‒ замерзло (1818 г.) – 4 чел.,
‒ от голода (1815 г.) – 30 чел.,
‒ от голода (1817 г.) – 19 чел.,
‒ от голода (1846 г.) – 11 чел.,
‒ от голода (1855 г.) – 4 чел., ‒ от голода (1863 г.) – 6 чел., ‒ съедено людьми – 14 чел. (Там же, с. 52‒55).
-
Статистические сведения по смертности, которыми завершается цикл публикаций Герасимова, несомненно, будут иметь большую ценность для дальнейшего изучения селькупов. Если же давать комментарии эффективности работы церкви по обращению язычников в православную веру, следует сказать, что тысяча крещеных прихожан на р. Таз в 1800 г. – это очень высокий показатель, говорящий о всеобщем охвате населения приписанного к церкви района10. Однако это достижение не должно никого вводить в заблуждение. Во-первых, в случае исполнения, хотя бы частичного, духовных треб для тысячи человек причт церкви жил бы безбедно, сколь бы мало прихожане ни платили за обряды, тем не менее, священнослужители почти все время жили впроголодь. Следовательно, реально взаимодействовали с церковью лишь единицы из этой тысячи крещеных прихожан. Во-вторых, известно и подтверждено научными исследованиями [Христианство и ламаизм…, 1979], что крещение аборигенов Сибири было, как правило, формальным, номинальным11. Они сохраняли свою языческую веру, которую не меняли, появляясь после крещения в церквях лишь изредка или вообще не появляясь. Истинно православными язычники становились только после ассимиляции русскими.
След, который оставило православие в традиционной культуре аборигенных народов Сибири, тоже изучался [Там же], а вот обратный процесс – влияние сибирских аборигенов на православных священников ‒ в научной литературе почти не был освещен. По этой теме, с упоминанием причта Тазовской церкви, известна лишь работа Щапова. Согласно его материалам, многие тазовские священники женились на остячках, и дети их тоже вступали в смешанные браки, при этом сыновья, как остяки, «записывались в ясак». Один из таких метисов-сыновей, женившийся на дочери новоприбывшего священника, был даже избран остяцким князем (кок’ом). Дети детей не делали выбора между остяками и русскими (казаками, мещанами) и создавали семьи как с теми, так и с другими. Многие священники осваивали остяцкий язык и вели на нем богослужение, проповедовали во время просветительских поездок по остяцким промысловым угодьям [Щапов, 1937, с. 98]. Родной язык русских уроженцев Туруханского края, включая священнослужителей, приобретал свои особенности, в нем появлялся характерный выговор: тон повышения или понижения голоса, характер вокализации имели те же особенности, что у остяков [Там же, с. 112]. О мировоззренческих влияниях аборигенов на русское население Туруханского района Щапов пишет: «В умственном складе и понятиях природных русских туруханских жителей также много сходного с миросозерцанием или верованиями и понятиями туземных остяков, тунгусов, юраков и самоедов» [Там же, с. 108]. Это выражалось в том, что почти все русские туруханцы приносили жертвы, проезжая мимо принадлежащих инородцам «природных» священных мест, а также имели приметы, «совершенно тождественные» приметам остяков и тунгусов [Там же, с. 109]. Некоторые русские больше других поддались влиянию инородческих суеверий: за образами, например, на божницах они держали инородческих «истуканчиков» и занимались вместе с инородцами шаманством. «В 1863 г. было даже следственное дело по поводу русского шаманства на Тазу: на Носовском станке крестьянин Иван Простокишин шаманил вместе с юраком и пришаманил зарыть в землю 8-летнюю девочку» [Там же]. Маловероятно, что материалы Щапова о влиянии язычества на мировоззрение туруханских русских касаются священников, однако к взрослым поповским детям и детям их детей, уже покинувшим родителей, они наверняка применимы. Думается также, что больше всего заимствований причт Тазовской церкви делал из материальной сферы жизни остяков, так как ему приходилось вести хозяйство в одинаковых с ними природных условиях.
Выводы
Итак, в статье суммируются все имеющиеся по истории Тазовской Николаевской церкви данные, включая сведения из нового, неизвестного до сих пор источника, который этой статьей вводится в научный оборот. Материалы свидетельствуют о том, что Тазовская церковь возвышалась над берегами Таза более двух веков – с 1719 г. по конец 1920-х гг. Причт церкви выполнял миссионерские задачи, обращая инородческое население в православную веру. В формальном количественном измерении эта задача была им выполнена на сто процентов еще к концу XVIII в. Однако данный успех нельзя считать победой качественной, так как большинство остяков и юра-ков, крестившись, фактически вере своей не изменяли, оставаясь язычниками.
Причт церкви, состоявший из священника, дьячка и пономаря, получал казенный оклад и плату от прихожан за исполнение духовных треб, но этих средств ему, как правило, не хватало даже на пропитание. Священнослужители вынуждены были, подобно своим прихожанам, добывать себе дополнительные средства к существованию охотой, рыбалкой и разведением оленей. Некоторые священники, обеспечивая себя материально, запятнали свое честное имя вымогательством и замалчиванием грехов прихожан, выходя своими действиями за рамки закона. При этом многие священнослужители Тазовской церкви были подвижниками: выучив остяцкий язык, они вели на нем церковные службы и произносили проповеди. Нередко священники еще глубже погружались в культуру инородцев: они женились на остячках, и дети от таких браков, повзрослев, уходили жить в одинаковой пропорции как в русскую, так и в инородческую среду. Долгое проживание тазовских священнослужителей бок о бок с остяками оставило обоюдный след в аборигенной и в местной русской культурах.
Список литературы О Тазовской Николаевской церкви
- Васильев В.И. Селькупы. Гл. 2. Основные этапы этнической истории // Народы Западной Сибири. Ханты. Манси. Ненцы. Энцы. Нганасаны. Кеты. М.: Наука, 2005. С. 311‒317.
- Доннер К. У самоедов в Сибири. Томск: Ветер, 2008. 176 с.
- Островских П.Е. Баишенские остяки (остяко-самоеды) Туруханского края в конце XIX в. // Со-ветский Север. 1931. № 7–8. С. 161–181.
- Степанова О.Б., Сюзюмов А.А. Бассейны Таза и Турухана на географических картах XVIII‒XX вв. // Вестник Брян. гос. ун-та. 2019. № 3. С. 59‒71. DOI: 10.22281/2413-9912-2019-03-03-59-71. EDN: BOYXRV.
- Степанова О.Б. К истории антропогенного ландшафта бассейнов Таза и Турухана (XVII – начало XX в.) // Кунсткамера. 2018. № 1. С. 16‒28. DOI: 10.31250/2618-8619-2018-1-16-28. EDN: YLWSPR.
- Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири (вторая половина XIX – начало ХХ вв.). Л.: Наука, 1979. 227 с.
- Шухов И.Н. Общий обзор бассейна реки Таз (по данным Таз-Тунгусской экспедиции И.Н. Шухова в 1914 г.). Ачинск: Тип. К.Ф. Крестникова, 1915. 44 с.
- Щапов А.П. Историко-географические и этнологические заметки о Сибирском населении. Собр. соч.: доп. том к изданию 1905‒1908 гг. Иркутск: Восточносибир. обл. изд-во, 1937. 378 с.
- Миллер Г.Ф. Сибирь XVIII в. в путевых описаниях Г.Ф. Миллера / изд. подгот. А.Х. Элерт. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. 310 с.