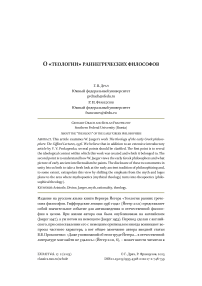О "теологии" раннегреческих философов
Автор: Драч Г.В., Французов Р.И.
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.17, 2023 года.
Бесплатный доступ
Данная статья направлена на анализ работы В. Йегера «Теология ранних греческих философов. Гиффордские лекции 1936 года». Мы считаем, что в дополнение к вводной статье В. В. Прокопенко необходимо прояснить несколько моментов. Первый - раскрытие идейной контекстуальности, из которой рассматриваемая работа не только вырастала, но и оставалась в неё вписанной. Второй - понимание того, какими видит ранних греческих философов В. Йегер и какую картину раннего античного интеллектуализма он рисует для нас. Раскрытие этих двух моментов в единстве не только позволяет нам по-новому взглянуть на раннюю античную традицию философствования, но и в некоторой степени продлить этот взгляд, переместив акцент с плоскости «миф-логос» в пространство перетекания «мифопоэтики» (теология мифическая) в «теопоэтику» (теология философская).
Аристотель, божественное, йегер, миф, рациональность, теология
Короткий адрес: https://sciup.org/147243517
IDR: 147243517 | DOI: 10.25205/1995-4328-2023-17-2-748-759
Текст научной статьи О "теологии" раннегреческих философов
Издание на русском языке книги
Вернера Йегера «Теология ранних грече- ских философов. Гиффордские лекции 1936 года» (Йегер 2021) представляет собой значительное событие для антиковедения и отечественной филосо- фии в целом. При жизни автора она была опубликована на английском (Jaeger 1947), а уж потом на немецком (Jaeger 1953). Перевод сделан с англий- ского, при сопоставлении его с немецким оригиналом иногда возникают вопросы частного характера, а вот общее замечание автора вводной статьи В.В. Прокопенко: «Даже упоминаний об этом труде Йегера… в отечественной литературе мне найти не удалось» (Йегер 2021, 6), – может ввести читателя в
заблуждение. Отечественным специалистам эта работа давно известна. Во всяком случае её англоязычный вариант 1947 года (см. Кессиди 1972, 308; Вольф 2012, 361). А в 1990 г. вышла в свет коллективная монография «Зарубежное философское антиковедение», в которой В. Йегеру посвящена специальная глава (Драч, Чермантеева 1990, 21–30). В этом случае авторы обращались к работе Йегера, изданной на немецком языке в 1953 году в Штуттгарте. Конечно, продолжающееся знакомство (после издания первого и второго томов
«Пайдеи») с трудами выдающегося антиковеда – философа и филолога-клас- сика, каковым признавался В. Йегер ещё в 30-ые годы XX века, весьма зна- чимо. В этом пространстве уже высвечен Карл Рейнхардт, наступила очередь В. Йегера, вернее его работы, о которой уже пошла речь. Есть на русском языке и исследования о «Третьем гуманизме» В. Йегера. Впрочем, автор всту- пительной статьи не показал, в какой мере поднимаемые им вопросы гума- низма проливают свет на осмысление основных идей публикуемой книги.
И второе. В. Йегер совершенно определённо отвергал позитивистское по- нимание раннегреческих философов как творцов естествознания, как и иррационалистическое, мистическое их толкование. О ком, однако, идёт речь?
Прокопенко полагает, что одно направление представлено Д. Бернетом, а другое – Ф. Корнфордом, Э. Доддзом и др. С Бернетом всё ясно, но во втором случае речь определённо идёт о К. Йоле, создавшем яркую картину «рожде- ния греческой натурфилософии из духа мистики» (Joel 1926). У Йегера мы ви- дим полемику с Т. Гомперцем, Д. Бернетом и П. Таннери, с одной стороны, а с другой – не с Корнфордом, а с К. Йолем, в противоположность которому В. Йегер не собирается «выводить натурфилософию из духа мистики» (Jaeger 1953, 5). Он не проводит специальных историографических обзоров. Не делает этого и В. В. Прокопенко, хотя ему и удалось воссоздать идейное пространство довоенной Германии и очертить его основные антиковедческие параметры. Но работа В. Йегера всё же не выпадает из мирового историографического контекста. Она может быть вписана в проблемное поле, которым является рождение (происхождение) древнегреческой философии. Конечно, в этом случае недостаточно сослаться лишь на Д. Бернета. Нельзя не учитывать «Историю греческой философии» У. Гатри, в частности, переведённый на русский язык первый том (Гатри 2015) и многое другое.
Оговоримся, даже критическое отношение к характеристике раннегреческих философов, создавших, по Д. Бернету, европейскую науку, не позволяет выносить, как это делает В. В. Прокопенко, окончательный вердикт: «Сегодня такие категорические суждения встретить трудно» (Йегер 2021, 42). Иначе эли- минируется начало рационального миропонимания, знаменующего рожде- ние философии. И рациональной теологии, если следовать В. Йегеру. Историографический контекст, конечно, более широк, в него вписываются не только русскоязычные исследования, но и зарубежные, посвящённые проблеме начала философии. Прежде всего речь идёт о двухтомнике давно ставших классическими статей о начале философии. В первом томе опубликована и упоминаемая В. В. Прокопенко статья Г. Властоса о теологии и философии в раннем греческом мышлении (Vlastos 1970). Да и недавнее издание У. Гатри на русском языке, со вступительной статьёй Л. Я. Жмудя, возвращает нас к дискуссиям об «интеллектуальной революции», которую совершили греки. Впрочем, содержащаяся в Предисловии историографическая диспозиция и скрытые возражения Йолю позволяют Йегеру войти в современное проблемное поле, а главное, открыть свой замысел. «Если мы избежим обеих крайностей, то остаётся тот факт, что великие новые мысли древних мыслителей о “природе” и “космосе” были для них самих непосредственно связаны с новым воззрением на божественное» (Jaeger 1953, 5). Йегер считает, что он обязан рассматривать вслед за Г. Дильсом и У. Виламовичем досократовскую философию как «часть истории греческого гения», и в то же время он «потратил всю жизнь на изучение христианской традиции». Это положение, несомненно, имеет определяющий методологический характер. Сопутствующие историко-философские размышления раскрываются, если попытаться вслед за Августином поместить раннегреческих мыслителей в историко-религиозный ряд (в качестве представителей «естественной теологии»).
В. Йегер так и поступает и включает греческую философию в предысторию христианской религии. В этом смысле философия языческой античности, будучи «теологией натуральной», «служит основанием сверхнатуральной христианской теологии» (Jaeger 1953, 10). Парадокс состоит в том, что религиозные идеи философов играют более важную роль, чем публичная религия греков. «Разве не парадоксален тот факт, что тем из греческого наследия, что имело для религиозного развития человечества непреходящее значение, были не образы олимпийских богов, которые живут лишь в фантазии поэтов, а религия философских мыслителей-эллинов, которая будет существовать до тех пор, пока люди живут на этой земле» (Jaeger 1953, 17–18). Но В. Йегер как филолог-классик не мог не видеть, что мышление раннегреческих мыслителей было слишком отлично от олимпийской религии и эпической мифологии, хотя и носило во многом дофилософский характер. И если он признаёт за ними право на некоторую предысторию «естественной теологии», то как историк философии он не мог не замечать проблемы перехода к рациональному мышлению, которое и делало их представителями «теологии натуральной». И здесь обращений к Августину и Варрону, на которого опирается Августин, мало. Надо вернуться к первоисточнику, каковым выступает Аристотель.
Согласно Аристотелю, первые философы – «фисиологи» противопоставили «теологам» (учившим о богах) учение о «природе вещей» – «фюсис». С одной стороны, Аристотель понимает «теологию» как фундаментальную философскую дисциплину, которую называет также «первой философией» или «наукой о высших принципах» (впоследствии для обозначения этой науки стал употребляться термин «метафизика»). А с другой, там, где Аристотель использует этот термин для выявления исторической связи, в качестве «теологов» он называет не философов типа Гесиода и Ферекида, которым противостоят «физики» как первые действительные «философы». После этого, отмечает В. Йегер, можно было бы, казалось, заключить, «что философия начинается там, где кончается теология». Но он отвергает это предположение. Вопрос более сложен, положение о «преемственности фундаментальных форм мышления» играет здесь решающую роль. В учении о неподвижном двигателе и движении сфер Аристотель возвращается к религиозным представлениям о богах на небе. В них содержится предвосхищение истины, но оформленное мифическим способом. Заключение Йегера таково: «Значит, теология представляет собой исторически первую, мифическую ступень человеческого познания. На более высокой ступени оно опять возвращается к этой проблеме, которую теологи рассматривали своим способом» (Jaeger 1953, 14). В первом случае «теология» понимается как систематизация народных верований, во втором – как ядро и основа учения о сущем.
Становится очевидным, что религиозное идейное содержание учения нельзя ставить в прямое соотношение со степенью его логически-системати-ческой разработанности. Это отношение опосредовано содержанием философских идей. Но дело в том, что на ранних этапах греческой философии теология оказывается не отделенной от других областей мышления. Задача состоит в том, чтобы определить те специфические формы, «в которых религиозное мышление выступало в независимых философских спекуляциях» (Jaeger 1953, 18). Отправным выступает для В. Йегера суждение Аристотеля о том философы действуют, строго доказывая, теологи же, напротив, мифологизируя – mythikos sophizomenon» … «Это очень меткая формулировка, – продолжает В. Йегер, – так как она подчеркивает как общее то, что теологи также обосновывают свои учения (sophizontai), так и различия, поскольку они делают это "мифическим образом"» (Jaeger 1953, 19). Итак, ключевое понятие «естественной теологии», или «натур-теологии» и терминологически, и содержательно ориентирует на текстуальное исследование традиционной для большинства историко-философских исследований проблемы перехода от «теологии» к «фисиологии» (в терминологии Аристотеля) или от «теологии мифической к теологии философской» (в терминологии В. Йегера), «от мифа к логосу» – (в терминологии В. Нестле).
В. Йегер во многом следует «физической» трактовке первых философов, принадлежащей Аристотелю. Речь идёт о философском изучении природы, которая составляет, согласно В. Йегеру, предмет досократовской философии, но не как самоцель, а как средство достижения божественного. Хотя В. Йегер употребляет термин «naturliche Theologie», а не «Naturtheologie» у него, по существу, речь идет о «натуртеологии», так же как у
К. Йоля
речь шла о
«натурмистике». И в первом, и во втором случае природа оказывается ступенью восхождения к высшей божественной сущности. Так что правильнее было бы говорить не о «натурфилософии», а о «натуртеологии». Как же В. Йегер представляет себе содержательную ситуацию, скрывающуюся за термином theologia naturalis? «Само слово “теология” еще более древнего происхождения, в любом случае – это специфически греческое творение. Этот факт не всегда верно понимается и требует особого внимания, ибо он относится не только к слову, но еще более к тому делу, которое оно выражает» (Jaeger 1953, 12). В. Йегер специально оговаривается, что слово «теология» имеет не только философское значение. Важно это отметить, поскольку он в дальнейшем обратится к «мифической теологии», расходясь в воззрении на ее роль в генезисе «философской теологии» с Августином: «Духовная ситуация, которая порождает понятие “теология”, показывает совершенно другую картину, чем та, из которой происходили представления Августина или Варрона о естественной теологии» (Jaeger 1953, 12).
Вопрос о том, что такое «божественное вообще», по Йегеру, мог возникнуть лишь тогда, когда божественные образы и миф как таковой стали под- вергаться сомнению, а источником достоверного знания и истины стали утверждаться последовательное мышление и опыт. Исходной точкой такого мышления выступает найденная из собственного мышления действительность. Характеризуя теологию «милетских натурфилософов», В. Йегер обращается к реальности человеческого опыта – «τὰ ὄντα». «Τὰ ὄντα» составляет человеческую действительность, те бытовые вещи (домашняя утварь, посуда и т. д.), с которыми он имеет дело повседневно, всё, что относится к его состоянию и окружению. Да и шире – всё видимое и распознаваемое с помощью органов чувств, включая и небесные явления. Боги в «τὰ ὄντα» не входят, то есть боги традиционной религии отрицаются. Распространяется критика традиционных представлений о богах. Собственное мышление человека не допускает признания истин мифологических повествований. Сохраняется ли в таком случае религиозное сознание вообще? Во всяком случае, у натурфилософов традиционные верования подлежат переосмыслению, а само понятие «фюсис» (φύσις) исключает вмешательство богов. Но в открывающемся пространстве рациональной мысли происходит развитие и новых суждений о божественном.
Текстологические исследования упираются в выделяемую Йегером про- блему: теология у раннегреческих философов не выделена в особые разделы.
Как в этом случае охарактеризовать их теологические идеи и что к ним отнести? Как филолог – классик В. Йегер обращает внимания на неизбежные натяжки при толковании религиозно-мифологических терминов как простой персонификации в рациональных конструкциях первых философов. Здесь и начинается серьёзная, вдумчивая текстологическая работа. У Гомера и Гесиода просматривается систематизация публичных культов, своего рода «мифопоэтика». Но нет ещё размышлений и абстрактных (denkende) спекуляций. Можно допустить, что систематизирующее мышление подводит к рациональному поиску первоначал. Хотя, и на это обращает внимание, в частности, В. Шадевальдт, у Гомера и Гесиода при всём отсутствии сформировавшегося рационального мышления есть и теология, и антропология, в то время как некоторые современные трактовки первых философов как «физиков» оставляют за ними лишь одну природу.
Теология у греков – это ментальная позиция, позволяющая выразить приближение к Богу или богам (theoi) посредством логоса. Уже начиная с легендарного основателя милетской школы, одного из семи мудрецов – Фалеса, мы сталкиваемся с единством физического и метафизического, имманентного и трансцендентного. И несмотря на то, что от самого мудреца до нас дошли лишь крохи, В. Йегер связывает с ним начало европейской философии. Хотя в более строгом смысле можно говорить лишь об историко-философском ряде, установленном Аристотелем (Драч 2020). Впрочем, можно согласиться, что положение, приписываемое Фалесу: «Войдите. Здесь тоже есть боги», – действительно украшает «врата бытия» и служит духовным путеводителем в «страну философии».
Однако несмотря на то, что описываемые выше врата безусловно были распахнуты Фалесом, только у Анаксимандра мы впервые имеем возможность констатировать философские положения и обозначить связь того, что Йегер называет теологией, с его научными представлениями о природе вселенной. Действительно, только с Анаксимандра можно говорить о философско-теологическом понимании божественного в его учении об «апейроне» в связи с утверждением того, что «Анаксимандр изобрел понятие ἀρχή» (Жмудь 2012, 18), с одной стороны. С другой, благодаря сообщению Фемистия о том, что «Анаксимандр… оказался достаточно смел, чтобы выпустить трактат о природе» (Гатри 2015, 176). В рамках историко-философского анализа традиционно приписываемого философу фрагмента, который уже со времен М. Хайдеггера стал предметом для споров (Хайдеггер 1991, 28–69), дискуссий не избежать. Но помимо внешней атрибуции, приписываемой Анаксимандру, существует достаточно богатый смысловой потенциал приписываемых философу высказываний. Так известно, еще со времен Симпликия, о цитате, отражающей принцип функционирования мира, а также о знаменитом «беспредельном», что является «фундаментальным основанием самого мира». Взятые вместе, они выступают как вполне единая физическая конструкция. Однако, вспоминая, передаваемое Диогеном Лаэртием высказывание о боге, понятие «беспредельного», одновременно, наполняется новым смыслом и становится первым примером разработки учения о Божественном, «концепции Божественного» в античной философской мысли.
Схожую логику развития теологической составляющей мы находим и в иной, италийской, досократической философской традиции. Логическое и онтологическое, открывающее путь европейской науке, инициирует в этой традиции теологический поиск. Она не стоит особняком и, допускает Йегер, находится в тесном контакте с ионийской философией природы. Хотя уже у Ксенофана – идейного предшественника элейской школы, мы можем обнаружить яркие отличия от ионийцев. С одной стороны, это связано с тем, что нам достаточно много известно о личности данного философа, а с другой, в связи с разработками конкретно теологической проблематики, которая неминуемо сталкивается с критикой современных Ксенофану политеистических верований. Таким образом, констатирует В. Йегер, «Ксенофан – интеллектуальный революционер (geistiger Revolutionar)» (Jaeger 1953, 54). Он автор духовного переворота, в котором интеллект и вера сопряжены друг с другом. В его лице философия противопоставляет «единого Бога» богам народной религии и демонстрирует миру новые картины действительности , а если еще учесть поэтические особенности изложения, то мы с уверенностью можем говорить о зарождении теопоэтики в отличие от мифопоэтики Гесиода.
Но возвращаясь к религиозным размышлениям Ксенофана, мы вслед за У. Гатри можем заметить, что для древних греков вопросы монотеизма и политеизма не имели того жизненно важного значения, которое они имели для христианина, мусульманина или иудея (Гатри 2015, 618). Его философская теология оставалось интеллектуальным событием античной культуры, как и другие философские учения о Боге, связанные более всего с теого- нией. И несмотря на это и на гимническую форму их сочинений, свидетельствующих о благоговении перед Богом, их нельзя считать религией. Лишь в каком то достаточно ограниченном смысле «можно досократовскую философию понимать как религию» (Jaeger 1953, 199). Но о какой религии идёт речь? Интеллектуалы создавали иную (философскую) религию. Переход от вопросов теогонии к проблемам космогонии не освобождал их от вопросов о мироустройстве и назначении человека и, наоборот, приводил к постановке проблемы сущности Бога. Такого рода «религиозный поиск», если так его называть, инициировал научные изыскания и делал необратимым разрыв с Олимпийскими, а тем более ещё с более древними божествами народной религии.
Закончим на этом, хотя, конечно, открываются возможности интерпретации текстов, но в этом случае обращение к любому из персоналиев досокра-тиков становится самостоятельным исследованием. Ограничимся общими выводами. Религиозный пафос раннегреческих философов – это реформаторский порыв, позволяющий обосновать изменение образа жизни человека. Жаль, что Йегер не обратился к Пифагору. Но с другой стороны, пифагорейский образ жизни вырывал человека из привычного социального окружения. В то время как обычно другие раннегреческие мыслители так далеко не шли, подготавливая самопреображение личности, но оставляя его в привычном полисном окружении. Понятие «теология» позволяет глубже раскрыть связь философии с внутренним миром человека и в то же время существенно уточняет толкование философии как «физики» (фисиологии). В некотором смысле мы пробуждаемся от «аристотелевского сна» в силу того, что проблема Божественного занимает более значительное место в учении раннегреческих философов, чем можно было ожидать, опираясь на аристотелевские сообщения о начале философии в первой книге «Метафизики». «В этом единстве духовного постижения Бога и интеллектуального (denkender) открытия сущего лежит происхождение всех позднейших философских теологий греков» (Jaeger 1953, 5). Античная философия – «естественная теология», а изучение природы в ней расценивается В. Йегером не как самоцель, а как средство достижения Божественного.
Конечно, именно Аврелий Августин сообщил новый смысл доксографи-ческой традиции, которая опиралась на свидетельства Аристотеля и Теофраста. По сути, он превратил историю философии в историю религии. А как же Йегер? Грегори Властос проницательно замечает, что, если бы В. Йегер использовал вместо термина «теология» «религиозные взгляды», всё было бы намного проще, он бы следовал такой традиции. Однако В. Йегер прежде всего историк философии. Он не оспаривает взглядов Августина на то обстоятельство, что греческая философия как theologia naturalis послужила предысторией для theologia supernaturalis. Но В. Йегер использует первый термин в тех смыслах, которые возвращают исследование к аристотелевской оппозиции «теологи - фисиологи». То есть принимает физическую трактовку первых философских учений, начатую Аристотелем. Греческая философия – подлинная «естественная теология», поскольку она опирается на «рациональное понимание природы самой реальности». Милетские философы обращаются к окружающему миру, как некоторой целостности (τὰ ὄντα), которая доступна человеческим чувствам. Поиск естественных оснований – это вопросы о природе мироздания (космология, космогония, основная философема) и о природе Божественного (теология, теогония и теодицея). Но на этом основании начинаются размышления об общественной жизни и переосмысление роли Богов, без чего не могли бы появиться новые полисные уложения и правовые нормы.
И другая идея, конституирующая историко-философский статус обращения к греческой философии, – идея субстанции. В научной литературе предысторию вопроса обычно начинают с Гомера и Гесиода. Поиск первоос-нования выливается у милетцев в некую теоретическую процедуру нахождения общего первооснования вещей, отталкиваясь от наблюдений природы. Но эта процедура означает не отказ от теологии, а её рациональное обоснование, не противостоящее эмпирическому опыту. У Герцена содержится положение, согласно которому судьба Богов на Олимпе была решена, как только Фалес обратился к воде. На самом деле всё сложнее. Да, поиск перво-основания вещей был связан с сомнениями в Богах, но это были Боги традиционной религии. Сомнения в них вели к разрушению единства образа и вещи, то есть формированию рационального мышления. Мифологические теологии репрезентируют совсем другой мир. Это мир, в котором человек встречался с Богами ежедневно – в поле и храме, в священных рощах и на просёлочной дороге. Такое мировидение было одновременно и Боговиде-нием. Боги – это истина мира и его тайна. Отказываются ли раннегреческие философы от такого мировидения, то есть от традиционной теологии? Во всяком случае, в их учениях фиксируется космогония и космология. Теогония преобразуется в космогонию, а космология в ней и не нуждается. Да, физическая трактовка (Аристотель) строилась на наблюдении вещей и рациональных обобщениях. Но присутствует ли у физиков (фисиологов) теология или она осталась в мифологическом прошлом, а сохранившиеся образы и метафоры – лишь архаизмы, рецидивы мифологического мышления? В обосновании отрицательного ответа на поставленные вопросы состоит основное значение труда В. Йегера. Он не связывает раннегреческую натурфилосо- фию с прошлым, но не ценой отказа от него, как это делал Д. Бернет, а сохра- нения теологического, а значит и антропологического, пафоса в ней.
Конечно, исследованием В. Йегера опровергается позиция Д. Бернета, со- гласно которому раннегреческие философы были первыми учёными, отбро- сившими, мифологические сказания и перешедшими к созданию научных теорий на основе научных методов и даже более «…этим людям мы обязаны концепцией точной науки, которая в конечном счете должна была охватить весь мир в качестве своего объекта» (Burnet 1957, 28). Такого рода категорич- ные суждения, может мы сегодня и не встретим, но позиция, которая уже давно фигурирует как «гносеогенная» существует и в «серьёзной науке» и встретить её совсем не трудно. У. Гатри в первом томе его многотомной «Истории греческой философии» уделяется достаточное внимание рациональным доказательствам и аргументации интеллектуальной революции у греков. Впрочем, можно было бы обратиться и к классическим исследованим, начиная с Целлера, и к современным отечественным и зарубежным работам – Ж.-П. Вернана, С. С. Аверинцева, Ф. Х. Кессиди и др. А уж если говорить о «радикальных суждениях» о греческой науке, то как не вспомнить Джонатана Барнза. Другое дело, что опровержения Бернета не должны приводить к утверждениям о том, что досократовская философия «остаётся для Йегера религией» (Йегер 2021, 54).
Выше мы поясняли в каком смысле можно говорить об этом. Всякое исследование природы требовало размышлений о природе божественного, поскольку обращение к «τὰ ὄντα» ответа на эти вопросы не давало, а интеллектуальное постижение мира их требовало. Собственно, не соглашаясь с Д. Бернетом, В. Йегер и открывает пространство раннегреческой теологии и антропологии. Здесь к месту вспомнить и о К. Йоле, у которого рождение натурфилософии происходит в пафосе мистического единения с Божественным Абсолютом. Натурфилософия выступает как итог этого исступления. В. Йегер обходится без обращения к мистическому единению с Абсолютом, как у Йоля. Но он не заменяет его холодными наблюдениями. Раннегреческое рациональное мышление натурфилософов согрето теологическими устремлениями и антропологическим пафосом.
Соответственно, «теология», как наука о божественном, представляет собой основной нерв греческого мышления и фундирует его развитие от поэзии (мифопоэтики) до рационального мышления – философии (теопоэ-тики). В один ряд объединяется теодвижение, допускающее элементы ретроспективы (движение от теологии как мифопоэтики к фисиологии) и ре-зультирующееся в учении о перводвигателе, Боге – гаранте рационального мироустройства. Нет такого разрыва и противопоставления, которое допускал Аристотель в учении о «фисиологах» и «теологах». Раннегреческая физика одновременно становится и метафизикой. Поиск божественного в природе превращается в способ антропологической идентификации через обращение к трансцендентному, через переосмысление мира, воздействия Богов, взаимоотношения людей и Богов. За переосмыслением Богов стояло переосмысление мира. Мир «физики» становится объёмным, включает весь спектр отношений человека с природой и сверхприродным (Богом). Первые философы мыслили, не отрываясь от образов (смыслообразов). Конечно, греческая «наука» опиралась на астрономические знания Египта, но путь греков к Богу был иным. Он открывал глаза на природу как на самостоятельную реальность (греки не знали идеи творения из ничего), делал продуктивным систематизацию и сбор эмпирического материала. «Физика» и «метафизика» оказывались слитыми воедино и центром этого слияния становился человеческий и одновременно Божественный мир. Человек представал как микрокосм макрокосма, а теология становилась столь же неотъемлемой частью истории философии как она сама для истории религии.
Список литературы О "теологии" раннегреческих философов
- Вольф, М.Н. (2012) Философский поиск: Гераклит и Парменид. Санкт-Петербург.
- Гатри, У. К. Ч. (2015) История греческой философии. Том I. Санкт-Петербург.
- Драч, Г. В., Чермантеева, Т. С. (1990) «Теологические концепции происхождения античной философии», Зарубежное философское антиковедение. Москва.
- Драч, Г. В. (2020) «Философия Аристотеля как событие историко-культурного ряда», Вопросы философии, 2020, №1, 27–37.
- Жмудь, Л. Я. (2012) «Доксография в ее связи с другими жанрами античной историографии философии», Историко-философский ежегодник-2011. Москва.
- Йегер, В. (2021) Теология ранних греческих философов. Гиффордские лекции 1936 года. Санкт-Петербург.
- Кессиди, Ф. Х. (1972) От мифа к логосу. Москва.
- Хайдеггер, М. (1991) «Изречение Анаксимандра (пер. Т. В. Васильевой)». М. Хайдеггер. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего периода творчества. Москва.
- Jaeger, W. von. (1953) Die Theologie der frühen griechischen Denker. Stuttgart.
- Joel, K. (1926) Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mystik. Jena.
- Burnet, J. (1957) Early Greek philosophy. New York.
- Jaeger, W. (1948) The Theology of the early Greek Philosophers. The Glifford Lectures. Oxford.
- Vlastos, G. (1970) “Theology and Philosophy in Early Greek Thought,” in his Studies in Presocratic Philosophy. Vol. 1. London, 92–129.