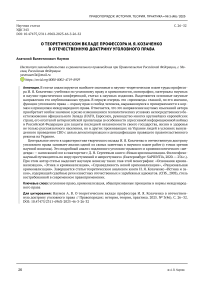О теоретическом вкладе профессора И. Я. Козаченко в отечественную доктрину уголовного права
Автор: Наумов А.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Научные мероприятия. Отзывы. Рецензии
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются наиболее значимые в научно-теоретическом плане труды профессора И. Я. Козаченко: учебники по уголовному праву и криминологии, монографии, материалы научных и научно-практических конференций, статьи в научных изданиях. Выделяются основные научные направления его опубликованных трудов. В первую очередь это «проповедь» главной, по его мнению, функции уголовного права — охрану прав и свобод человека, выражающуюся в приверженности к нормам и принципам международного права. Отмечается, что это направление научных изысканий автора приобретает особое значение в резко изменившихся геополитических условиях непосредственного бо-естолкновения официального Запада (НАТО, Евросоюз, руководство многих крупнейших европейских стран), его оголтелой антироссийской пропаганды (в особенности агрессивной информационной войны) и Российской Федерации для защиты последней независимости своего государства, жизни и здоровья не только русскоязычного населения, но и других проживающих на Украине людей в условиях вынужденного проведения СВО с целью демилитаризации и денацификации правящего правительственного режима на Украине. Центральное место в характеристике творческого вклада И. Я. Козаченко в отечественную доктрину уголовного права занимает анализ одной из самых заметных в научном плане работ (с точки зрения научной новизны). Это подробный анализ подлинного уголовно-правового и криминологического «шедевра» — написанной им в соавторстве с Д. Н. Сергеевым книги «Новая криминализация. Философско-научный путеводитель по миру преступлений и непреступного» (Екатеринбург: SAPIENTIA, 2020. — 256 с.). При этом автор статьи выделяет научную новизну таких глав этой монографии: «Основания криминализации», «Этика и криминализация», «Справедливость новой криминализации», «Рациональная криминализация». Завершается статья теоретическим анализом книги И. Я. Козаченко «Истина и закон», содержащей судебные речи известных отечественных и зарубежных адвокатов. (СПб., 2003), столь востребованной в современном правоприменении.
Уголовное право, криминализация, общепризнанные принципы и нормы международного права
Короткий адрес: https://sciup.org/14134009
IDR: 14134009 | УДК: 343 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-26-32
Текст научной статьи О теоретическом вкладе профессора И. Я. Козаченко в отечественную доктрину уголовного права
Многочисленные научные труды Ивана Яковлевича Козаченко, в первую очередь, выражаются в подготовке им самых разнообразных по жанру произведений: учебники, монографии и статьи в престижных изданиях. Им, например, опубликовано свыше 300 научных, учебных и учебно-методических работ по самым различным проблемам уголовного права и криминологии. Время появления авторских учебников И. Я. Козаченко (как ответственного и научного редактора) можно определить 1997-м годом, когда был опубликован «Учебник уголовного права. Общая часть». Ответственный редактор И. Я. Козаченко и З. А. Незнамова (М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. — 516 с.). В том же году вышел из печати учебник «Уголовное право. Особенная часть». Учебник для вузов. Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова и Г. П. Новоселов. М.: Издательство (Издательская группа НОРМА-ИНФРА, М., 1997. — 755 с.). В 2012 г. в издательстве «Норма» (Москва) в соавтор- стве им был выпущен учебник по криминологии, ответственным редактором которого является И. Я. Козаченко, выдержавший 5 изданий. В 2013 г. в издательстве «Норма» и «Юрист» (Москва) опубликовано 5 учебников, автором и ответственным редактором которых является И. Я. Козаченко. Под его научной редакцией подготовлено свыше 11 монографий. Он также является редактором 19 межвузовских сборников научных работ, выпущенных в свет издательством УрГЮА и другими издательствами.
Материалы и методы
Уголовное законодательство, учебники по уголовному праву, специальная литература по проблемам исследования. Основу исследования составили положения диалектического метода познания явлений, предполагающие их изучение в постоянном развитии и взаимообусловленности, а также общепризнанные (сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция)
и частно-научные методы (формально-логический, системно-структурный).
Описание исследования
В чем притягательность для читателя (например, правоприменителя или студента юридических вузов) названных теоретических источников? Постараюсь выделить две причины. Во-первых, отмечу проповедуемую Иваном Яковлевичем главную функцию российского уголовного права — охрану прав и свобод человека . И, во-вторых, его приверженность к общепризнанным принципам и нормам международного права. Признаюсь, что сейчас в резко изменившихся геополитических условиях непосредственного боестолкновения официального Запада (НАТО, Евросоюз), его оголтелой антироссийской пропаганды и России для отстаивания указанных (конституционных!) принципов, толкуемых нередко как проявление определенного либерализма и, даже «антипатриотизма», требуется подлинное гражданское мужество.
Сошлюсь лишь на недавнее событие, о котором поведал «Московский комсомолец». Суть его заключалась в том, что гастроли Театра Вахтангова в Севастополе отменили за два с небольшим часа до первого показа спектакля «Царь Эдип» (древнегреческой трагедии). Вот как это выглядело в изложении автора статьи, известного журналиста Марины Райкиной. Оказывается… неожиданно выяснилось, что успешный коллектив поставил на полуостров продукцию «предателя Туминаса» (правда, тот уже как год с лишним лежит в сырой, недружественной нам литовской земле», что в посте одного из руководителей города было расценено как попытка «устроить провокацию»)… Ума не приложу, как спектакли, которым рукоплескал европейский мир… а также дружественный Китай, где русские спектакли Вахтанговского театра остаются символом русской культуры, как и Большой театр, в родной стране вдруг в один день стали провокацией? Как такое возможно?
Теперь возможно, когда с патриотизмом, этим прекрасным словом, что-то не то происходит. Ведь оно для нас как слово мама, оно не напоказ, не для крикливых лозунгов и постов. А происходит с ним то, что из существительного многие его по-быстрому сделали прилагательным. Прилагательным к собственной карьере — политической, чиновничьей, творческой, к амбициям и комплексам нереализованных в своем деле людей… И в такие патриотические геймы попал Вахтанговский, которому, кроме гениального покойника, пришить нечего. Ну не полные же залы на шести активно работающих сценах припоминать? Или возрождённый из небытия и разрухи родовой дом Вахтангова во Владикавказе? Причём, в основном на свои, кровно заработанные, а не на министерские. Не абсурд ли это, который сеет подозрения и страх» 1.
Свою характеристику творческих достижений И. Я. Козаченко начну с анализа одного из последних проявлений указанной тенденции (уже названной его приверженности нормам и принципам международного права), выраженной в едва ли не уголовно-правовом и криминологическом «шедевре» — в книге, написанной И. Я. Козаченко в соавторстве с Д. Н. Сергеевым «Новая криминализация. Философско-юридический путеводитель по миру преступлений и непреступного» (Екатеринбург: SAPIENTIA, 2020. — 256 с.) [1, с. 66–70]. После написания рецензии прошло уже несколько лет, и автор, разумеется, уточнил и значительно дополнил свои выводы и оценку значимости рецензируемой книги в условиях сегодняшнего столь противоречивого миропорядка, в том числе и уголовной политики. Внимательный читатель может вполне убедиться в этом. Надеюсь на понимание своих коллег по занятию уголовно-правовыми проблемами.
Саму проблему криминализации вряд ли можно назвать новой. По крайней мере она, начиная хотя бы с опубликования книги «О преступлениях и наказаниях» Ч. Беккариа, обсуждается уже более двух с половиной веков, а поток публикаций на эту тему только лишь возрастает. В связи с этим авторы в самом начале своей монографии (авторском предисловии) уточняют, что речь в книге идет не вообще об известном процессе криминализации, а о так называемой (авторами же) новой криминализации. Под ней они понимают «установление уголовной ответственности за те деяния, которые ранее уголовным законом не наказывались». Такую криминализацию они называют «прогнозом будущего развития уголовного права». Подзаголовок книги вызван, по мнению авторов, их стремлением отразить «объект исследования — философские и юридические представления о гранях данных феноменов». При этом авторы не скрывают того, что в своей работе опирались на доктринальный опыт прежних разработчиков данной проблемы, и не претендуют на признание своих идей «истиной в последней инстанции», а рассматривают написание своей книги как «приглашение к осмыслению будущего уголовного права через его настоящее и прошлое, которое концентрировано может быть заложено в идеях новой криминализации». Свои амбициозные цели авторам удалось достичь (хотя по некоторым аспектам исследуемой ими проблемы автор данной статьи нашел повод для вступления с ними в дискуссию). Поэтому хотелось бы отметить в качестве проявления несомненной научной новизны рассматриваемого исследования конкретные позиции авторов по данной проблеме. Во-первых, несмотря на, казалось бы, «академические» доктринальные уточнения (уже названные) ее целей, задач и «жанра», — эта работа не теоретически-кабинетная, а имеющая непосредственное практическое значение и вызвана она «жизнью» — беспрерывным изменением Уголовного кодекса РФ новыми и новыми уголовно-правовыми запретами, создающими впечатление, что законодатель в области уголовного права озабочен, будто бы, одним — «чтобы еще что-то запретить». Авторы справедливо называют такие «новые» преступления (вслед за проф. Н. А. Лопашенко) «квазипреступлениями» или же «псевдопреступлениями» и считают их «искусственными» преступлениями. Мотивы такого правотворчества авторы связывают либо с лоббированием интересов определенных групп населения (или власти, или бизнеса), а также стремлением депутатского корпуса продемонстрировать высокую законотворческую активность (во исполнение наказов избирателей) и желанием угодить руководителям государства, в особенности руководству соответствующих учреждений и ведомств, сделавшим акцент в своих выступлениях на негативной оценке того или иного явления. Автор данной статьи согласен с указанием на эти причины увлечения законодателя криминализацией. В некоторых своих работах он буквально «кричал» о превращении отечественной законодательной практики в процесс «кройки и шитья» и в превращение уголовного закона в «рабочий инструмент» для достижения любых желаемых законодателю политических и социально-экономических целей при отсутствии в нем (в уголовном законе) подлинных пробелов в уголовно-правовом регулировании, и что уголовный кодекс — это «не скорая помощь» и внесение в него изменений требует серьезных причин политического и социально-экономического характера [2, с. 764–768]. При всем согласии с авторами монографии насчет причин такого, не имеющего в мировой законодательной практике аналога увлечения переделкой уголовного Кодекса, предложу и еще одну причину. Это — кажущаяся «легкость изобретения» новых уголовно-правовых запретов. Понятно, что, издать (сформулировать) норму уголовно-правовую, будто бы гораздо проще, чем создать таковую, например, в гражданском праве. Хотя, разумеется, такое представление является глубоким заблуждением наших законодателей. Авторы монографии стараются помочь законодателю в отношении установления действительных пробелов в уголовно-правовом регулировании. Справедливо называют, например, такие сферы, как достижения генетики, робототехники, разработки в сфере искусственного интеллекта и обрушившуюся на весь мир цифровизацию, опыты представителей синтетической биологии, биомолекулярной химии и других новых областей знания.
Отталкиваясь от уже достигнутого в доктрине уголовного права и криминологии, авторы дают свое толкование понятия криминализации, вторгаясь не только в лингвистический его аспект, но и рассматривая криминализацию «как политическое и социально-правовое явление» и определяя ее «акторов» (а не просто субъектов) криминализации, а также выделяя стадии криминализации. В итоге они определяют «криминализацию (юридическую криминализацию) как обусловленный социально-правовыми обстоятельствами политический процесс, заключающийся в выявлении, описании, фиксации и пенализации отдельных форм индивидуального поведения». В такой формуле проявилось согласие с традиционным подходом к криминализации как разновидности уголовной политики. Однако, по мнению автора статьи, это все-таки не совсем так, и сами авторы в тексте монографии предлагают и другой, действительно новый, хотя бы для постсоветской литературы, подход (взгляд). Они справедливо обращают внимание на следующие особенности политического характера криминализации. «Лишь часть случаев криминализации имеют в своей основе политическую природу, во многих же других ситуациях криминализация не обусловлена зачастую иррациональной политической стихией, вполне рациональна». Автор данной статьи полностью согласен именно с таким определением доли «политического» в криминализации. Очевидно, что некоторые уголовно-правовые нормы об ответственности, например, за экономические преступления, защищают интересы одних социально-классовых групп, а другие — иных.
Свое особенное содержание авторы монографии смогли внести и в рассмотрение такого достаточно традиционного, в доктринальном плане, вопроса как история криминализации. Подобная новизна им удалась в связи с авторским же выделением (в сделанном историческом обзоре процесса криминализации от древности до настоящего времени) направлений как теоретических исследований, так и совершенствования уголовного законодательства. Таковыми явились: правовой плюрализм в исследовании уголовного права (опять-таки при рассмотрении истории криминализации); древние уголовные конфликты (протопреступления); соотношение греха и преступления (своего рода «церковная» криминализация); государственная «монополия» на криминализацию; экспансия юридической криминализации. Согласимся, что тем, кто продолжит традицию исследования феномена криминализации, будет что осмыслить не только в теоретическом, но и в сугубо жизненном (практическом аспекте). Что же касается области «церковной криминализации», то позволю напомнить, что, например, католическая церковь официально покаялась за сожжение на средневековых «кострах» инквизиции людей по надуманным поводам (допустим, обвинение, чаще всего женщин, в «ведьмовстве»: иногда в качестве доказательства выступала их красота — предполагаемо «дьявольская»); более серьезным грехом считалось, например, утверждение средневекового ученого, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот (известное сожжение на костре Джордано Бруно). Со стороны других конфессий подобных покаяний, однако, не поступало. А в части отображения такого явления, как экспансия юридической криминализации, авторы убедительно приводят безудержную, не имеющую каких-либо пределов, любимую нашим законодателем безразмерную бланкетность принимаемых им «новых» уголовно-правовых запретов (на примере хотя бы новой статьи 3301 УК РФ).
Пожалуй (на взгляд автора данной статьи), наибольшей научной новизной обладают следующие главы монографии: «Основание криминализации» (гл. III);
«Этика и криминализация» (гл. IV); «Справедливость новой криминализации» (гл. V); «Архетипы новой криминализации» (гл. VI); «Рациональная криминализация» (гл. VII). При этом авторы выдвигают свою схему предлагаемых ими оснований криминализации. Она начинается в виде очерка истории поиска граней между преступным и непреступным (от взглядов Монтескье до Иеринга) и продолжается поиском оснований криминализации: в советской (российской) доктрине; континентальной (европейской) доктрине; англо-американской теории криминализации. В заслугу авторов следует поставить то, что в решении основополагающего вопроса темы исследования они отошли едва ли не от общепризнанного противопоставления « европейского континентального » и «общего» уголовного права, учитывая имеющуюся тенденцию к стиранию резких отличий между ними и их сближению. Автору данной статьи это вполне понятно, так как уже более четверти века тому назад он (вместе со своим американским соавтором) в книге, написанной в Колумбийском университете (в Нью-Йорке), доказывал, что «между этими системами больше сходства, чем различий» [3], что, впрочем, порождало и недоуменные вопросы некоторых «коллег по перу»: как такое может быть?
В главе «Этика и криминализация» рассматриваются следующие аспекты проблемы: ее «лингвистический анализ»; ответ на вопрос — «обеспечивает ли уголовное право принудительность моральных запретов?»; «межнормативность» как существующую взаимосвязь, переплетения и конфликты разных нормативных систем (по Ж. Карбонье). При этом авторы внесли серьезный вклад в обсуждение вроде бы традиционной проблемы о соотношении морального и уголовно-правового в понятии преступления и, в особенности, в криминализации соответствующих деяний. В новейшее время это важно, например, для оценки достижений научно-технического прогресса (в монографии это исследование проводится на фоне изобретений науки в биоэтике и вообще появлении новых технологий). По этому поводу стоит вспомнить взгляды на этот счет еще профессора Ленинградского университета М. Д. Шаргородского, который, с одной стороны, предупреждал о том, что плодами научно-технического прогресса может воспользоваться и преступный мир, но, с другой, призывал к тому, чтобы уголовное право не превращалось в препятствие на пути развития науки и техники [4, c. 87–65].
Глава «Справедливость криминализации» посвящена раскрытию одного из самых противоречивых в доктрине требований, предъявляемых к криминализации, — ее справедливости как понятию крайне «оценочному». Авторы исходят при этом из признания такого качества «фундаментом» криминализации (т. е. ее основой) и конкретизации содержания понятия «юридической справедливости» — от Аристотеля до Европейского суда по правам человека, и раскрытии ими так называемого принципа «пропорциональ- ности» криминализации. При этом авторы обсуждают вопрос, возникающий нередко перед отечественным законодателем — о криминализации относительно мелких правонарушений, не представляющих серьезной опасности, а также о способности при широкой распространенности таких случаев создать предпосылки для их криминализации. Авторы дают четкий отрицательный ответ: такие «поступки ни при каких обстоятельствах не имеют справедливых оснований для их криминализации». В подтверждение такой идеи считаю необходимым привести, например, мнение Н. Ф. Кузнецовой о том, что «распространенность или массовость того или иного антиобщественного поведения является скорее всего доводом против возведения его в «ранг» преступления» [5, с. 4–6]. Такое суждение автор статьи, без всякой «натяжки» называет «гениальным», заслуживающим внесения его в учебники криминологии (однако я не помню, чтобы в них была сделана ссылка именно на этот источник). Данный вывод вполне справедливо можно распространить и на стремление отечественного законодателя к возрождению («реинкарнации») института административной преюдиции в уголовном праве, от которого принципиально отказались разработчики УК РФ 1996 г., имея в виду, что повторное совершение административного проступка не превращает его в преступление и что такой проступок можно сделать преступлением только искусственно (как остроумно заметила Н. Ф. Кузнецова, «даже сто кошек не могут образовать одного тигра») [6, с. 542].
При раскрытии судебной формы реализации принципа справедливости криминализации авторы убедительно приводят практику Конституционного Суда РФ и, в частности, его постановления по делу Дадина (от 10 февраля 2017 г. № 2-П). Однако, после прочтения монографии автор данной статьи может не согласиться с утверждением, что оно (это решение) «практически никак не анализируется в российской уголовноправовой науке». Сошлюсь лишь на то, что автор данной статьи (еще до прочтения монографии) выступил в печати с оценкой такой позиции Конституционного Суда как «формулирование нового содержания принципа законности — определенности уголовно-правового запрета» в нескольких статьях в престижных юридических изданиях [7, с. 88–94]. Думается, что в этом плане следовало бы также упомянуть и роль Верховного Суда РФ и Президента РФ в трактовке содержащегося или не содержащегося нарушения уголовно-правового запрета в «лайках», «постах» и «репостах» определенного лица (известные из СМИ дела Чудновец, Севастиди и других).
Едва ли не абсолютной научной новизной обладает содержание главы VI («Архетипы новой криминализации») и гл. VII («Рациональная криминализация»). В гл. VI дается определение понятия «архетипа» в теории новой криминализации (под ним авторы понимают: «своеобразный имплицитный культурный код, характеризующий типичные многократно повторяе- мые модели обоснования и принятия решения о новой криминализации»; «метод поиска архетипов новой криминализации»; «прецедент» криминализации, означающий, что «если некое деяние было криминализировано, то это дает основание для криминализации другого деяния, сходного с первым по одному или нескольким признакам» (авторы приводят, например, изобретение в уголовном законе понятия «аналога наркотического средства и психотропного вещества», т. е. запрещенного для оборота вещества синтетического или естественного происхождения, не включенного в Перечень наркотических средств, благодаря чему был криминализирован оборот веществ, которые могут быть еще и не созданы); «кумуляция» как «возникновение множества однотипных деяний, не являющихся преступлением», как «основанием для криминализации такого деяния» (авторы насчитали 36 случаев, когда кумуляция стала основой для принятия решения о криминализации); «аналогия», означающая, что «если некое деяние криминализировано в другой юрисдикции, то оно может быть криминализировано в отечественном уголовном законодательстве» (авторы приводят, например, «установленную во многих странах уголовную ответственность за манипулирование ценами на рынке ценных бумаг»; значимые для законодателя «реакции», т. е. события, вызвавшие большой общественный резонанс и что может склонить законодателя к решимости криминализировать определенные деяния с расчетом «на будущее» (авторы насчитали 6 случаев такой криминализации по УК РФ). Авторы сосредоточили свое внимание «на опасности иной раз следования законодателя общественному мнению». Так, по нашему мнению, очевидно, например, что законодатель прав в том, что не прислушивается к тому, чтобы вопрос о наказании в виде смертной казни выносить на референдум, так как это не тема для всенародного голосования. В этом же «ключе» авторы рассматривают и вопросы «статистики и динамики архетипов новой криминализации». При этом, в числе прочих аргументов, авторы справедливо рассматривают и практику принятия Пояснительных записок к принимаемому законодательному акту, вводящему новый уголовноправовой запрет. На наш взгляд, здесь вполне уместно было бы подвергнуть критике существующую практику финансово-экономического обоснования соответствующих законопроектов. Обычно в них утверждается, что принятие законопроекта не влечет за собой расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, но дело в том, что речь в этих случаях нередко идет о новых судебных процедурах, т. е. о достаточно большой предстоящей дополнительной нагрузке на судебный корпус, на суды, следствие и дознание, что конечно же не может не увеличить расходы, покрываемые за счет федерального бюджета.
В главе о рациональной криминализации рассматривается вопрос «о возможности достижения именно рациональной криминализации», под которой понимается достижение конкретной социально-полезной цели с помощью криминализации; «основание рациональной криминализации» (включая социальное и политическое); «формализация криминализации» (где «прописаны» требования, которые должен учитывать законодатель при решении вопроса о криминализации определенного деяния). В первую очередь, это обоснованность потребности в появлении (конструировании) нового состава преступления (статистические материалы, расчеты ущерба, экспертные суждения, зарубежный опыт и т. д.), предварительный прогноз влияния нового закона на совершение данного деяния и других преступлений, разъяснение основных формулировок новой статьи уголовного закона, обоснование его санкций. Авторы вновь справедливо обращают внимание на анализ Пояснительных записок к принимаемым законопроектам, вводящих в УК новые составы преступлений, отмечая, что «последние нередко не содержат никаких комментариев необходимости криминализации и внесения существенных изменений в уголовный закон, а ограничиваются общими фразами». Как хотелось бы, чтобы законодатель обратил внимание, хотя бы на эти две последние главы монографии, вполне претендующие на то, чтобы служить «Руководством» для законодателя при внесении поправок в УК РФ.
Завершая вопрос о стремлении И. Я. Козаченко в своих трудах подчеркнуть необходимость приближения отечественной уголовно-правовой доктрины об уголовном праве и его применении к мировым стандартам и аналогам, в том числе и к непреходящим ценностям и принципам права, укажу на все возрастающее их значение. Констатирую, что Иван Яковлевич — первый (из нашего юридического доктринального сообщества) по творческой настойчивости продвижения своих, на этот счет, взглядов. И думаю, что после непременного достижения победы в нынешнем боестолкновении России и Запада его представления о принципах Права и Правосудия станут (особенно в информационном плане) наиболее востребованными, хотя для их реализации и не простыми.
В указанные международно-правовые и компаративистские аспекты творческого наследия И. Я. Козаченко вполне вписывается и его обращение к такой проблеме, как привлечение внимания читателя к речам известных российских и зарубежных адвокатов XIX — начала XX века. Так, в 1994 г. редакцией Свердловского юридического института был издано два тома: «Трагедия любви» и «Коварные лабиринты». А в 2003 г. в издательстве «Юридический центр-Пресс» Санкт-Петербурга вышла книга «Истина и закон», содержащая судебные речи известных отечественных и французских адвокатов. Издание востребовано и сегодняшним читателем, так как эти речи представляют собой образцы гражданского мужества и профессионального мастерства, как сам автор отметил, «в постижении ИСТИНЫ с помощью ЗАКОНА и СЛОВА» (что так необходимо нынешнему судопроизводству, в особенности, по уголовным делам.
Свой «опус» заканчиваю восхищением преданности И. Я. Козаченко памяти своего Учителя — незабвенного Митрофана Ивановича Ковалева, упомянув хотя бы организацию регулярно проводимых им «Ковалевских чтений», и желаю другу и коллеге по юридической профессии всего самого доброго и, в первую очередь, здоровья и новых всевозможных удач!
Заключение и вывод
Теоретический анализ указанных работ И. Я. Козаченко свидетельствует о том, что они представляют собой значительный вклад в российскую доктрину уголовного права, а многие из них заслуженно входят в «золотой фонд» отечественного уголовного права и криминологической науки.