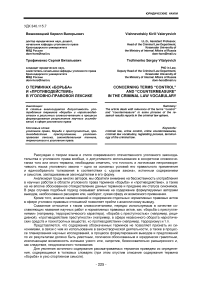О терминах «борьба» и «противодействие» в уголовно-правовой лексике
Автор: Вишневецкий Кирилл Валерьевич, Трофименко Сергей Витальевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 3, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется допустимость употребления терминов «борьба» и «противодействие» в различных словосочетаниях в процессе формулирования результатов научных исследований в сфере уголовного права
Уголовное право, борьба с преступностью, противодействие преступлениям, уголовноправовая лексика, законодательная техника, терминология в уголовном праве
Короткий адрес: https://sciup.org/14935266
IDR: 14935266 | УДК: 340.115.7
Текст научной статьи О терминах «борьба» и «противодействие» в уголовно-правовой лексике
Рассуждая о теории языка и стиля современного отечественного уголовного законодательства и уголовного права вообще, о допустимости использования в конкретном словосочетании того или иного термина, необходимо отметить, что точность и логическая непротиворечивость языка уголовного закона – одно из основных условий его правильного применения и единообразного толкования в соответствии с «духом закона», истинным содержанием и смыслом, закладываемым законодателем в его форму.
Анализируя труды многих авторов, мы обратили внимание на бессистемность употребления в научных работах в области уголовного права терминов «борьба» и «противодействие», а также на не вполне обоснованное отождествление данных терминов и придание им статуса синонимов. В ряде случаев подобный подход оказывает влияние на содержание формулируемых авторами выводов, необоснованно расширяя или, наоборот, сужая сферу их возможного применения.
Кроме того, анализ наименований и содержания отдельных нормативных правовых актов в сфере уголовно-правовых отношений позволяет прийти к аналогичному выводу.
Сказанное относится к таким словосочетаниям, нередко используемым в качестве составляющих названия научных работ и нормативных правовых актов, как: «борьба с преступлениями» (например, террористического характера), «борьба с преступностью» (например, рецидивной), «противодействие преступности» (например, в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ), «о противодействии» (например, терроризму) и т.п.
Представляется, что содержание обозначенных терминов не позволяет признать их синонимами, в связи с чем их использование в законотворческой деятельности, а также в процессе планирования научных исследований, в процессе формулирования выводов и предложений по их результатам должно быть уместным, логически обоснованным и юридически грамотным, исключающим возможность излишне узкого или, напротив, безосновательно расширенного и, как следствие, неоднозначного толкования.
Для уяснения истинного содержания рассматриваемых терминов приведем их определения, содержащиеся в толковых словарях (при этом опустим описание содержания термина «борьба» в узко спортивном смысле).
Так, термин «борьба» в Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой определяется как: военные действия, сражение; физическое сопротивление кому-либо, чему-либо; усилия, деятельность, направленные на преодоление, искоренение чего-либо; взаимодействие противоположных сторон, черт, тенденций, внутренне присущих всем явлениям и процессам природы, общества и мышления, являющееся источником их развития; столкновение противоположных общественных групп, направлений, течений, в котором каждая сторона старается одержать победу; столкновение противоречивых чувств, стремлений и т.п.; деятельность, направленная к достижению какой-либо цели.
В словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова «борьба» определяется как: схватка двоих, в которой каждый старается осилить другого; Проявление, сознательное или стихийное, классовых противоречий в действиях. (Борьба политическая. Борьба партий. Борьба классов. Классовая борьба); деятельность, направленная на преодоление, уничтожение чего-нибудь (борьба с алкоголизмом); деятельность, направленная к достижению какой-нибудь цели (борьба за повышение качества продукции, борьба за существование, борьба за власть).
Во многих других толковых словарях русского языка под редакцией известных авторов аналогичным образом формулируются определения термина «борьба», которые в обобщенном виде, сводя к совокупности следующего:
-
1) борьба как вид спорта, состязание между спортсменами;
-
2) деятельность, направленная на преодоление, уничтожение чего-либо;
-
3) столкновение противоречивых чувств, стремлений и т.п.;
-
4) деятельность, направленная к достижению какой-либо цели;
При этом, если в процессе раскрытия содержания термина «борьба» толковые словари изобилуют множеством определений, несущих в себе различные смысловые значения, то, определяя термин «противодействие», толковые словари единообразны и трактуют его в узко этимологическом смысле, как действие, направленное против другого действия:
-
1. «Действие, препятствующее другому действию, направленное против него» (Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т. Ф. Ефремовой).
-
2. «Действие, служащее препятствием к проявлению, развитию другого действия, сопротивление» (Словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова).
-
3) «Действие, препятствующее другому действию» (С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка).
Приведенные варианты толкования рассматриваемого термина синонимичны и предусматривают лишь один его смысл, являющийся, по сути, прямым, и означающий сопротивление или воспрепятствование осуществлению какого-либо конкретного действия, как акта поведения конкретного субъекта в конкретном месте в конкретное время.
Известно, что субъектом какого-либо деяния (действия или бездействия), с уголовноправовой точки зрения, может быть только человек. Соответственно, противодействие может осуществляться только по отношению к поведению человека.
Вышеприведенные определения термина «Борьба» содержат описание как противодействий (когда, например, речь ведется о борьбе как виде спорта), но и иные варианты трактовки рассматриваемого термина, отличные от узко этимологического толкования противодействия.
При этом даже «спортивные» определения термина «борьба» в частных случаях не могут быть охарактеризованы как действия, направленные против другого действия.
Так, боксеры, борцы и даже шахматисты осуществляют борьбу за лидерство, содержание которой, безусловно, сводится исключительно к противодействию: защита от ударов, блоки и контрудары на ринге или же перемещение фигур на шахматной доске - есть противодействие, то есть, как и описано, например, в словаре Ушакова: «Действие, служащее препятствием к проявлению, развитию другого действия, сопротивление». Синонимичность борьбы и противодействия присуща характеристике большинства игровых видов спорта.
В иных видах спортивных состязаний, содержанием которых, как и вообще в спорте, по определению является борьба за лидерство, использование термина «противодействие» явно не уместно, поскольку действия спортсменов представляют собой деятельность, отличную от сопротивления или деятельности, препятствующей осуществлению каких-либо действий. Борьбой, не означающей, по сути, противодействия, являются, например, прыжки в длину или в высоту, марафон, плавание, стрельба (но только по мишеням, то есть отличная от пейнтбола) и т.п. виды спортивных состязаний, в которых возможность победы зависит (исключим случайности) только от уровня подготовки спортсмена, а сами соревнования сводятся к оценке и сравнению максимальных личных результатов атлетов.
Приведенные примеры спортивных состязаний не могут быть охарактеризованы как противодействия спортсменов, а представляют собой деятельность, направленную к достижению цели борьбы одним из ее субъектов без воспрепятствования аналогичного рода действиям, осуществляемым другим субъектом спортивной борьбы.
Более того, некоторые элементы спортивных состязаний, в целом содержательно сводящихся к противодействию, могут не содержать черт действий, препятствующих действиям противника. Например, игроку, выполняющему штрафной удар в футболе противодействует вратарь и игроки «стенки»; баскетболист же, выполняющий штрафной бросок, никакого противодействия не испытывает).
Алгоритм разграничения понятий «борьба» и «противодействие» в спортивной лексике, на наш взгляд, аналогичен или, по крайней мере, близок алгоритму разграничения понятий «атлет» и «игрок».
Приведенные рассуждения, с нашей точки зрения, могут служить достаточными аргументами для вывода о том, что борьба и противодействие в спорте – не всегда синонимичные понятия, а спортивное противодействие представляет собой частный случай спортивной борьбы.
Представляется, что не только в «узко спортивном» смысле, но и в «правовых» определениях терминов «борьба» и «противодействие» существует подобные вышеописанным различия, в связи с чем, рассматриваемые термины нельзя признать синонимами.
Так, с нашей точки зрения, аналогом противодействия в уголовно-правовом смысле может быть признан конкретный акт необходимой обороны как правомерные своевременные действия, направленные против общественно опасного наличного и действительного посягательства. С этой точки зрения, поведение субъекта в состоянии крайней необходимости может не являться противодействием. Поскольку крайняя необходимость характеризуется опасностью, источником которой могут являться не только действия людей, не являющиеся посягательствами, но и силы природы, поведение животных, работа машин и механизмов, то действия по устранению такой опасности могут быть охарактеризованы не только как противодействие, но и, прежде всего, как борьба за неприкосновенность объектов уголовно-правовой охраны. При этом в ряде случаев крайней необходимости не приходится говорить не только о противодействии, но и о действии субъекта как таковом с уголовно-правовой точки зрения. Например, отказ капитана водного судна оказать помощь терпящим бедствие на морском или ином водном пути (ст. 270 УК России), как бездействие именно с точки зрения крайней необходимости оправдывается наличием опасности для своего судна, его экипажа или пассажиров.
Таким образом, представляется, что конкретный акт поведения субъекта в состоянии крайней необходимости представляет собой борьбу за неприкосновенность объектов уголовно-правовой охраны (при этом как действия, так и бездействие, как противодействие, так и просто деяние). Поведение же субъекта в состоянии необходимой обороны – всегда противодействие посягающему.
Статьи УК России не являются действиями, равно как не синонимичны определения преступления и его состава. В связи с этим представляется, что методы уголовного права (в том числе, и статьи о необходимой обороне, и о крайней необходимости) есть формы именно борьбы за неприкосновенность объектов уголовно-правовой охраны.
Представляется очевидным, что группа захвата во время штурма для освобождения заложников осуществляет противодействие конкретному преступлению террористического характера – захвату заложника, совершенному в конкретное время в конкретном месте.
При этом, безусловно, противодействуя конкретным террористам, группа захвата тем самым осуществляет борьбу с терроризмом как социальным явлением. С этой точки зрения противодействие конкретным террористам и борьба с терроризмом фактически сливаются воедино, а термины «противодействие» и «борьба», на первый взгляд, выглядят как синонимы, поскольку, по сути, соотносятся как, соответственно, задача и цель.
Вместе с тем, в иных случаях, задача противодействия конкретному преступлению террористического характера может абсолютно не преследовать цели борьбы с терроризмом как социальным явлением. Так, «вспомнивший о примечании к ст. 205 УК России» соучастник террористической группы, застреливший исполнителя непосредственно перед терактом, иным образом предотвратил акт терроризма, чем, по сути, противодействуя террористическому акту, преследовал отнюдь не высокие цели борьбы с терроризмом, а цель освобождения от уголовной ответственности.
Представляется, что, не смотря на то, что в приведенном примере реализация задачи противодействия конкретному преступлению террористического характера абсолютно не преследовала цели борьбы с терроризмом как социальным явлением, но, поведение террориста, безусловно, такой борьбе объективно способствовало. В связи с этим, с нашей точки зрения, законодательно регламентированное специальное основание освобождения от уголовной от- ветственности за преступления террористического характера можно справедливо отнести к числу методов уголовно-правовой борьбы с терроризмом.
Представляется, что подобные аргументы не будут иметь значения, когда мотивом поведения такого соучастника будет не желание отказаться от дальнейшей террористической деятельности и быть освобожденным в связи с этим от уголовной ответственности, а противодействие теракту в конкретном месте в конкретное время в целях, например, предотвращения гибели близких ему (террористу) людей.
Подобный пример действительного противодействия конкретному преступлению не только не преследует целей борьбы с терроризмом, но даже, как в предыдущем примере, объективно такой борьбе не способствует. Безусловно, конкретный теракт в конкретном месте пресекается, но его исполнение переносится на другое время или место, что не может свидетельствовать о прекращении террористической деятельности конкретной группы.
На наш взгляд, приведенные примеры логично обосновывают действительность различия в терминах «борьба» и «противодействие» не только в спортивной, но и в правовой лексике.
Представляется, что методы уголовного права, не являющиеся по своей природе действиями, не могут характеризоваться как противодействие преступлениям, а представляют собой форму и методы борьбы с преступностью как социально-правовым явлением.
Соотношение понятий «преступление» и «преступность», с нашей точки зрения, аналогично соотношению понятий «противодействие» и «борьба». На наш взгляд, противодействие преступности как социально-правовому явлению невозможно; противодействие возможно лишь конкретным преступлениям, тем, о которых известно, множественность которых, в числе прочего, образует преступность. Противодействия, очевидно, явно недостаточно для достижения целей борьбы с преступностью как с явлением, в том числе и, особенно, с латентной преступностью.
В связи с изложенным, считаем необходимым проанализировать обоснованность использования термина «противодействие» в наименовании Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 08.11.2008 № 203-ФЗ, от 22.12.2008 № 272-ФЗ, от 30.12.2008 № 321-ФЗ, от 27.07.2010 № 197-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 03.05.2011 № 96-ФЗ, от 08.11.2011 № 309-ФЗ).
Первое, на что хочется обратить внимание и что свидетельствует о терминологической бессистемности рассматриваемого закона, - это, с одной стороны, законодательное разграничение понятий «террористический акт» и «терроризм» (ч. 3 и ч. 1 ст. 3 Закона), а с другой стороны - их отождествление.
Так, в ч. 1, 2 и 3 ст. 3 «Основные понятия» Закон содержит легальные определения терроризма, террористической деятельности и террористического акта.
«Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий» (ч. 1 ст. 3 Закона).
«Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:
-
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
-
б) подстрекательство к террористическому акту;
-
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
-
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
-
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
-
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности» (ч. 2 ст. 3 Закона).
«Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях» (ч. 3 ст. 3 Закона).
Из приведенных определений, на наш взгляд, очевидно, что террористический акт есть часть терроризма, включающего, помимо террористического акта, иную террористическую деятельность (определение которой отлично от определения террористического акта), а также идеологию насилия, связанную «с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий».
С другой стороны, анализируемый Федеральный закон в ч. 4 ст. 3 «Основные понятия» содержит легальное определение термина «Противодействие терроризму», включающее в себя «деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по:
-
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
-
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
-
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».
Исходя из содержания п. «а» и «б», понятия терроризма и террористического акта – синонимичны, так как профилактикой терроризма законодатель признает выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих не осуществлению терроризма вообще, а только совершению террористических актов; борьбой с терроризмом законодатель именует выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование только лишь террористического акта, определение которого, изложенное в Законе, буквально совпадает с составом преступления, предусмотренным ст. 205 УК России.
Мы согласны, что такое буквальное и бессистемное толкование абсурдно, противоречит духу закона, вместе с тем считаем, что приведенные выводы вполне логичны.
В связи с этим возникает вопрос: можно ли при регламентации положений столь серьезного и значимого закона, определяющего, по сути, право России не только применение исключительной меры наказания к конкретному террористу, но и право вооруженного вторжения на территорию иностранного государства с использованием всего арсенала Вооруженных Сил России (ст. 10 Закона), допускать противоречивость в формулировках, порождающую неоднозначность толкования закона, «истинный» дух которого (в итоге) зависит от конкретной политической ситуации и (или) личности подозреваемого?
Подобного рода противоречивость закона, терминологическая бессистемность при специально предусмотренной для такой систематизации статье 3 «Основные понятия» свидетельствует о нарушении принципов законодательной техники в процессе работы законодателя по формулированию положений Федерального закона «О противодействии терроризму» и о фактическом создании условий для применения закона по аналогии.
При этом, как отмечалось выше, аналогичные недостатки прослеживаются и в наименовании Закона.
Представляется, что законодатель допустил не вполне обоснованную синонимизацию терминов «борьба с терроризмом» и «противодействие терроризму».
Расширив пределы противодействия терроризму до «минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» (п. «в» ч. 4 ст. 3 Закона.), законодатель тем самым определил принципиальную возможность противодействия последствиям проявлений терроризма, то есть (раз проявления терроризма – преступления террористического характера) законодатель определил возможность противодействия последствиям преступлений. Представляется, что противодействие последствиям сродни процессу предсказания прошлого. В связи с этим более уместным, с нашей точки зрения, было бы словосочетание «борьба с последствиями проявлений терроризма», поскольку:
-
1. Последствиями проявлений терроризма (как идеологии насилия) являются существенные изменения в морально-нравственных характеристиках личности, подвергнутой воздействию такой идеологии. Особую актуальность такие последствия приобретают в случае с несовершеннолетними потерпевшими, процессуальный статус которых зависит не от результатов противодействия конкретным преступлениям, а от результатов именно борьбы с терроризмом, как социально-правовым явлением.
-
2. В отличие от противодействия, «борьба» определяется как деятельность не только против кого-либо или чего-либо, но и как усилия, деятельность, направленные на достижение какой-либо цели, то есть вполне возможна и безоппозиционная (в уголовно-правовом смысле, когда нет субъекта противодействия) борьба за жизнь пострадавших от терактов; борьба с разрухой или последствиями экологической катастрофы как результатами теракта и т.п. представляется, что обозначенное не может быть охарактеризовано как противодействие, поскольку противодействие допустимо и возможно против наличного действия, а не против его последствий.
Так, успешное противодействие конкретному теракту и уничтожение конкретного террориста порождает месть и ненависть, как мотивы новых терактов, в связи с чем только лишь противодействие последствиям проявления идеологии насилия без применения всего комплекса мер борьбы с негативным социально-правовым явлением, с нашей точки зрения, - «сизифов труд».
Кроме того, борьба с последствиями терроризма в приведенных примерах характеризуется мотивом восстановления нарушенного блага, а противодействие последствиям терроризма (буквально означающее противодействие терактам) – мотивом недопущения актов терро- ризма. Очевидно, что борьба и противодействие (в контексте изложенного) осуществляются на абсолютно разных стадиях, а потому не являются синонимами.
Представляется, что действующая формулировка наименования Федерального закона «О противодействии терроризму» была бы абсолютно справедливой, если бы закон регламентировал оперативно-розыскную, процессуальную и тактико-специальную деятельность по выявлению, раскрытию, расследованию и пресечению терроризма как одного из множества преступлений террористического характера, состав которого был предусмотрен первоначальной редакцией ст. 205 УК России и носил название «терроризм».
Однако, как известно, в анализируемом Федеральном законе речь ведется о терроризме не как о конкретном преступлении, а как о социально-правовом явлении, борьба с которым не укладывается в узкие рамки противодействия отдельным преступлениям.
Кроме того, некоторые аргументы в поддержку нашей позиции относительно недопустимости отождествления определений борьбы и противодействия можно найти в словарях иностранных слов, которые по-разному воспроизводят рассматриваемые термины в зависимости от того, ведется ли речь о противодействии или о борьбе, придавая последней более широкий смысл, нежели действие, направленное против другого действия.
Так, перевод слова «борьба» на английский язык в Большом русско-английском словаре и в русско-английском словаре под рук. проф. А.И. Смирницкого [1] приводится в нескольких значениях, в которых словом “struggle” определяется поДавление чего-либо нежелательного, попытка Добиться чего-либо (то есть борьба в смысле более широком, нежели противоДействие), например, « борьба с бедностью» - “struggle against (war on) poverty”, «борьба за справедливость» - “struggle for justice”.
«Схватка» или «Борьба с кем-либо», то есть противодействие кому-либо или какому-либо событию, переводится иначе и звучит как “fight”, например, «борьба с пожарами» или «пожаротушение» - “fire-fighting”, а слово “fire-prevention” означает борьбу в более широком смысле, чем тушение огня и переводится как «профилактика пожаров», то есть деятельность, по содержанию и объему отличная от непосредственного пожаротушения.
«Спортивная борьба» переводится как “wrestling”.
Слово «борьба» в разных смысловых значениях имеет разные переводы не только на английский, но и на немецкий язык [2]: «Борьба с преступностью» - “die Bekämpfung der Kriminalität”; “Ringkampf” - спортивная борьба, спортивное состязание.
В тех же словарях термин «Противодействие» или «Активное противодействие» переводится как “counteraction” (англ.); противодействовать кому-, чему-либо – “entgegenwirken” (нем.).
Приведенный перевод с английского языка имеет в русском языке созвучный аналог и звучит, как контракция, что и означает противодействие (контр – против, акция - действие). Немецкий вариант перевода также практически дословный: “entgegen” - «против», “wirkung” -«действие, воздействие».
Представляется возможным сделать вывод о том, что слова «противодействие» и «борьба» не только в русском, но и в английском переводах имеют абсолютно разные по объему и содержанию смысловые значения.
«Борьба» - понятие более широкое, содержательно включающее в себя понятие «противодействие», в связи с чем наименование Федерального закона «О противодействии терроризму» представляется не вполне обоснованным, исходя из содержания самого закона, а также определения термина «противодействие».
Подобного рода, с нашей точки зрения, терминологическая бессистемность прослеживается, как отмечалось выше, не только в законодательных актах, но и в правовой доктрине, что не способствует соблюдению точности, логической последовательности и непротиворечивости и, соответственно, юридической грамотности языка уголовного закона как одному из основных условий его правильного применения и единообразного толкования в соответствии с «духом закона», его истинным содержанием и смыслом, закладываемым законодателем в его форму.
Ссылки:
-
1. URL: http://www.classes.ru/dictionary-russian-english-Smirnitsky-term-2924.htm#universalruen
-
2. См.: Русско-немецкий словарь по общей лексике. URL: http://www.classes.ru/dictionary-russian-english-Smirnitsky- term-2924.htm