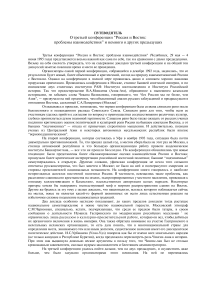О третьей конференции Россия и Восток: проблемы взаимодействия (и немного о двух предыдущих)
Автор: Валкенир Элизабет Кридл
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Путеводитель
Статья в выпуске: 1, 1999 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911695
IDR: 14911695
Текст статьи О третьей конференции Россия и Восток: проблемы взаимодействия (и немного о двух предыдущих)
О третьей конференции “Россия и Восток: проблемы взаимодействия” и немного о других предыдущих
Третья конференция “Россия и Восток: проблемы взаимодействия” (Челябинск, 29 мая — 4 июня 1995 года) представляется весьма важной как сама по себе, так и в сравнении с двумя предыдущими. Возьму на себя смелость утверждать, что на содержание докладов третьей конференции и на общий тон дискуссий заметно повлияли время и место ее проведения.
Оглядываясь в прошлое, понимаешь, что первая конференция была созвана слишком рано после болезненного и неожиданного распада Советского Союза. Слишком рано для того, чтобы всем ее участникам удалось прийти к согласию по вопросу о преимуществах сосуществования различных культур, глубоко проникнуться духом взаимной терпимости. Слишком рано было также ожидать от русских ученых подлинно критических оценок политической и культурной роли России на бывшем советском Востоке, а от бывших “подчиненных” — отказа от привычных стереотипов мышления. И действительно, позиции ученых из Центральной Азии и некоторых автономных мусульманских республик были вполне “верноподданническими”.
На второй конференции, которая состоялась в Уфе в ноябре 1993 года, ситуация была почти диаметрально противоположной. То, что прошел целый год, а местом сбора была на этот раз не Москва, а столица автономной республики и что большую организационную работу провели академические институты Башкортостана, — все это не прошло бесследно. На конференции обозначились три новые тенденции: были представлены более сбалансированные оценки взаимодействия России и Востока; прозвучали более критические интерпретации российской восточной политики; бывшие “подчиненные” самоутверждались в открытую. Другими словами, уфимская конференция не несла того сильного отпечатка русскоцентризма, что был заметен в Москве; не было на ней и подчеркнутого смирения со стороны представителей национальных меньшинств. На конференции много говорилось о наиболее неприглядных аспектах восточной политики России. В частности, освещались такие проблемы, как расселение славянского крестьянства на землях, экспроприированных у местного населения, приведшая к геноциду коллективизация в Казахстане, насильственная депортация целых народов. Некоторые ораторы хотели бы подправить господствующий миф о мирном распространении славян на Восток. Другие же брались за эту тему с целью доказать, что национализм, всплеск которого наблюдается сейчас на местах, вовсе не является какой-то формой шовинизма: он всего лишь естественная реакция на избыточное силовое подавление национальных традиций.
Два доклада особенно наглядно показывают, до каких пределов доходили тогда растущее национальное самоутверждение и новое чувство национальной гордости. Московский этнограф С.М.Червонная, специально, кстати, подчеркнувшая, что среди ее предков были татары, в своем сообщении о деятельности Исмаила Гаспринского по модернизации российских мусульман 2 не ограничилась лишь рассказом о культурно-просветительской работе, которую он вел, чтобы добиться их органичного включения в жизнь империи. Она также обратила внимание на участие Гаспринского в нелегальных исламских организациях, то есть дала понять, что в многонациональной стране для определения места, занимаемого тем или иным деятелем, существенное значение имеет его диссидентское политическое действие. И.С.Урбанаева (Улан-Удэ) говорила как бы от имени всех монгольских народов (не только живущих в Республике Бурятии), когда предложила пересмотреть роль Чингис-хана в истории. При этом она выдвинула довольно веские аргументы в пользу того, что Чингис-хан был не столько кровожадным завоевателем, сколько мудрым законодателем и блестящим администратором.
На третьей конференции удалось пойти дальше, чем на двух предыдущих, и осуществить даже больше, чем было задумано организаторами этого начинания. На ней не перепевались русскоцентристские мотивы и не делался акцент на тех несправедливостях и унижениях, что выпали на долю неславянского населения. На конференции были предложены новые сбалансированные интерпретации, не столь политизированные, как это было раньше. Если исходить из них, то можно надеяться на дальнейшее развитие научных исследований, на политическое будущее в целом.
Нет сомнения в том, что новый, более умеренный взгляд на старые взаимоотношения сформировался в результате политического развития и уроков прошедших трех лет. Важно также, что местом созыва стал довольно удаленный от Москвы провинциальный административный центр региона с населением, этнически смешанным, но с преобладанием русских, региона, где сложились устойчивые местные традиции и сохранилась местная самобытность. Так что время и место действительно способствовали появлению заметно менее конфронтационных и более взвешенных подходов к проблеме взаимоотношений России и Востока.
Подъем научной активности, наметившийся к 1995 году, проявился в росте числа участников, увеличении проблемных секций и расширении круга обсуждаемых проблем. Если на первой конференции было представлено не более 40 докладов, а на второй — около 100, то на третьей — уже свыше 200 3. На первых двух встречах работали соответственно 4 и 5 секций, на третьей — 10. Но еще более значимым свидетельством жизнестойкости науки явилось преобладание молодых ученых. В то время как на первых двух конференциях доминировали “генералы науки”, в Челябинске большинство докладчиков были людьми в возрасте от 30 до 40 и чуть более 40 лет. Им было явно неинтересно заниматься сведением старых политических счетов или размышлениями на тему, как прошлое повлияло на современность. Исследование — вот что их привлекало: изучение материалов недавно открытых архивов, исследование сюжетов, ранее запретных, или ускользавших от внимания ученых. Поэтому и спектр сообщений оказался очень широким. Так, были представлены доклады о деятельности мусульманских депутатов Государственной думы в царской России, об истории еврейской общины в Иркутске, интересе Пушкина и Достоевского к Корану, разнообразные доклады этнографов, например, доклад о том, как буряты и поляки сумели ужиться друг с другом, не утратив при этом своей культурной самобытности 4.
Среди новых тенденций, наметившихся на конференции, особо следует выделить две. Одна заключается в более позитивной оценке роли Востока в развитии России, другая — в стремлении пересмотреть концепции отношений “центр—периферия”.
В большинстве докладов о культурных контактах России и Востока акцент делался скорее на взаимообогащении разных культур, чем на преобладании какой-то одной, более развитой. Кроме того, благотворные для России последствия ее связей с Востоком приравнивались по их значимости к результатам ее контактов с Западом. Показательным в этом отношении является доклад В.В.Борисовой (Уфа) о романе Гончарова “Обломов”. В нем нет привычного противопоставления двух несовместимых философий и стилей жизни, воплощаемых, с одной стороны, полеживающим на диване Обломовым в его восточном халате, с другой — энергичным поклонником западных ценностей Штольцем. Зато подчеркнута возможность позитивного синтеза двух противоположностей в личности сына Обломова Андрея, которому предстоит воспитываться в доме Штольца. По мнению автора, именно в этом молодом человеке восточные и западные черты счастливо сплавятся в собственно русские качества 5.
Вообще в Челябинске бросалось в глаза отсутствие того, что Эдвард Саид назвал “ориентализмом” — автоматического признания превосходства западной цивилизации над восточной. Сходным образом не было и намека на то, что кто-то разделяет апокалипсические предсказания Самуэля Хантингтона о грядущем столкновении двух противостоящих, враждебных цивилизаций. Что меня — в моем качестве “американского наблюдателя” — поразило, так это господствовавшее на конференции непредвзятое, непредубежденное отношение к культурам Востока, благосклонное — к их взаимодействию с русской культурой. Хочется надеяться, что это предвещает в будущем гармоническое сосуществование на социальном и политическом уровнях.
Что касается отношений “центр-периферия”, то генератором свежих идей прежде всего стала новая секция “Города восточных окраин России”. На ней обозначились различные взгляды на экспансию Москвы в пределах огромной территории Евразии. Указывалось, что хотя в этом процессе доминировала воля центра, окраины тоже внесли свой вклад, да еще сохранили при этом островки автономии. Но и этнографы мало того, что добились более широкого охвата своего предмета, еще и уделили особое внимание различным способам решения межэтнических проблем на местах. Такой повышенный интерес к местной инициативе — нечто новое в Российской Федерации. Он свидетельствует о признании того факта, что вклад провинции был немалым в прошлом и что провинция сыграет свою роль в ближайшем будущем. Все это означает, что исследователи уверены (и уверенность побуждает их к действию) в возможностях активного регионализма.
Сама успешная организация конференции в Челябинске служит тому подтверждением. Когда стало ясно, что университет не сможет покрыть все расходы и проведение конференции оказалось под угрозой, областные и городские власти предоставили необходимые средства. Большое число участников и большие усилия, предпринятые некоторыми участниками, чтобы приехать в Челябинск, — еще один знак возрождения духа инициативы на местах. Одни, чтобы сократить расходы на транспорт, втискивались в институтские мини-автобусы и проводили в пути по 10 часов. Другие же вообще приехали за свой счет.
Все вышесказанное не означает, что конференция прошла под знаком полного единодушия. Несогласия обнаружились главным образом в двух вопросах: о характере русской колонизации Востока и об отношениях России с Западом.
Важнейшей темой обсуждения на конференции стали постоянные приливы и отливы миграций и переселений на огромном евразийском пространстве. Отчасти этому способствовало то, что в 1987 году недалеко от Челябинска было обнаружено протогородское поселение Аркаим, относящееся к бронзовому веку. Это выдающееся открытие побудило организаторов учредить в составе конференции большую археологическую секцию. Одновременно создался благоприятный общий фон для обсуждения и на других секциях причин постоянных перемещений народов в евразийских степях, в ряду которых приход русских может рассматриваться лишь как последняя волна непрекращающихся миграций.
Тема естественных передвижений народов в ходе тысячелетий стала лейтмотивом доклада видного этнографа, директора прекрасного этнографического музея в Уфе Р.Г.Кузеева 6. С близких позиций выступал Д.В.Гаврилов (Екатеринбург), сосредоточивший свое внимание на событиях более близкого прошлого — русской колонизации Урала. Правда, им была представлена слишком идеализированная картина индустриального развития региона, способствовавшего, по мнению автора, подъему экономического и культурного уровня местного населения и устранению этнических барьеров. При таком сценарии единственной пострадавшей стороной оказывается окружающая среда 7.
Столь оторванная от реальности трактовка исторических событий вызвала целый хор критических голосов. Одни, как М.Ф.Прохоров из Москвы, ограничились тем, что указали на необходимость разграничения между первоначальной “мирной” миграцией русских на Урал и за Урал и сопровождавшейся насилиями массовой колонизацией, организованной правительством в середине XVIII века. Другие, как В.В.Меньшиков из Кургана,довольно резко оспорили в целом миф о мирном освоении Сибири. Ведь нельзя говорить о том, что местное население совсем не пострадало в ходе этого процесса, так как заметно снизился уровень рождаемости и благосостояния. В.В.Меньшиков привел и такой убедительный довод: о конфликтах разного уровня при расселении русских нет ни одной монографии. Неудивительно, что иллюзии о мирном характере укоренения русских в Сибири — как бы ни были они далеки от реальности — продолжают жить.
Не было единства мнений и относительно взаимоотношений России с Западом. Вероятно, наиболее традиционное выступление в духе классических “западников” прозвучало на завершающем пленарном заседании. А.Х.Бурганов (Москва) выступил с утверждением 8, что Запад все еще является искомым образцом для России в ее движении к триединой цели: индивидуализму, динамичности, гражданскому обществу. Доводы такого рода не отвечали, однако, настроениям, царившим на конференции, — никто их не поддержал, и похоже, что их просто проигнорировали как избитые и устарелые. Это не значит, что вообще оспаривалась необходимость движения к этим целям, просто другие участники конференции возражали против опыта абсолютизации Запада.
Так, Э.С.Кульпин (Москва) указывал, что в истории решающее значение имеют не культурные контакты, а объективные характеристики окружающей среды. Чрезмерное давление населения на природные ресурсы и истощение последних могут способствовать усилению государственного вмешательства и сужению поля индивидуальной инициативы. А.Б.Цфасман (Челябинск) попытался взглянуть на процесс вестернизации России в сравнительной перспективе. Процесс этот не был уникальным, и Россия вовсе не стояла перед жестким выбором “либо-либо”: модернизацией под влиянием Запада были захвачены и другие страны, и в случае с Японией она завершилась удачным, гармоничным симбиозом традиционного и современного.
На конференции также прозвучала открытая критика мании евроцентризма. В.Г.Тищенко (Челябинск) утверждал, что нынешние попытки реформировать Россию по западным лекалам чреваты усилением централизации, госрегулирования и давления из Москвы 9. Д.М.Легкий (Кустанай) предложил вниманию участников конференции новую интерпретацию политического поведения русской интеллигенции XIX века. Он привел пример болезненной двойственности таких либеральных адвокатов, как А.В.Стасов. Они разделяли и защищали западные юридические нормы, но в то же время дружески общались с теми и защищали тех, кто эти нормы, начисто отвергал, — с большевиками и другими революционерами. П.Б.Уваров (Челябинск) дал еще более резкую критическую оценку вестернизированной российской интеллигенции. По его мнению, она оказалась отрицательной силой, силой разрушения, а не положительной силой, силой обновления.
В целом конференция придала новое звучание извечному вопросу об отношениях России с Западом да и с Востоком тоже. Критика европоцентристского видения прошлого и будущего России сопровождалась позитивной реинтерпретацией ее отношений с Востоком. При этом, в отличие от “евразийства” политиков и писателей, “евразийство” ученых, собравшихся в Челябинске, основывалось не на геополитических амбициях, обостренных утратой Россией статуса великой державы, и не на местечковом страхе перед глобализмом, а на беспристрастном признании того, что на протяжении большей части истории Россию и Восток соединяли двусторонние и для обеих сторон важные связи. Такое “евразийство” нацеливает на объективное исследование, взаимную терпимость и взаимопонимание. На конференции ощущалось искреннее желание понять, как контакты развивались в прошлом, — понять для того, чтобы внести свою лепту в улучшение отношений в будущем. В общем, сосредоточились не на том, чтобы определить, кто и насколько виновен, а на том, чтобы осознать процесс взаимоотношений во всей его сложности.
В заключение можно с полной уверенностью констатировать успех конференции в Челябинске. Она продемонстрировала этот успех на трех уровнях — доказала жизнеспособность научных занятий в целом, большой потенциал молодого поколения исследователей и высокую активность провинции в этой области. Конференция явилась приятным сюрпризом для человека, приехавшего с Запада, где средства массовой информации зациклились на Москве, на повсеместных лишениях — следствии приватизации и конверсии и на тяжелом положении в науке. Все три уровня оценки челябинской встречи дают совсем другую картину, свидетельствующую о наличии ресурсов и энергии.
Сама тональность конференции вселила в меня, наблюдателя с Запада, уверенность в будущность как российской гуманитарной науки, так и всей Российской Федерации. Общая направленность докладов конференции означает, что период сведения старых счетов закончен и наступило время восстановления или, скорее, строительства на основе свежих подходов, нового видения. И при этом новом видении представления о господстве и превосходстве сменяются представлениями о взаимозависимости и взаимообогащении.
Правда, несмотря на очевидный прогресс конференции “Россия и Восток”, один разочаровывающий момент там все-таки был. Хотя третья конференция в определенной мере носила более международный характер, чем две предыдущие (на ней были участники из Турции, Японии и США), ей не хватало ученых из Средней Азии. Их полное отсутствие отчасти может быть отнесено на счет расходов и трудностей, связанных с транспортом. Но из кулуарных разговоров стало известно, что в данном случае сыграло свою роль то обстоятельство, что ученые Российской Федерации и республик Средней Азии не могут найти общего языка. В то время как происходит экономическое сближение в рамках СНГ, в культурном сотрудничестве и поиске взаимопонимания заметно отставание. Остается надеяться, что ситуация изменится к лучшему на IV конференции. Ее предполагается провести в 1996 году в Омске — в городе, до которого легче добираться из Средней Азии.
Список литературы О третьей конференции Россия и Восток: проблемы взаимодействия (и немного о двух предыдущих)
- Моисеев В.А. Политика России в Казахстане и Центральной Азии в освещении новейшей казахской историографии и публицистики
- Панарин С.А. Восток глазами русских//Россия и Восток: проблемы взаимодействия. М., 1993. Часть I. С. 30-39, 52-61.
- Губогло М.Н., Червонная С.М. Научное наследие Исмаила Гаспринского как инструмент современной национальной политики//Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Тезисы докладов и сообщений к международной научной конференции. 16-17 ноября 1993 года. Уфа, 1993. С. 10-14
- Россия и Восток: проблемы взаимодействия. III Международная научная конференция 29 мая -4 июня 1995 г. Тезисы докладов. Часть IV. Русская литература и Восток. Тюрко-славянские языковые взаимодействия. Челябинск, 1995. С. 5-7.
- Кузеев Р.Г. Тюрки и славяне на Южном Урале: демографический аспект//Россия и Восток... Часть II. Русская колонизация Урала: историко-культурные процессы. Города восточных окраин России. Челябинск, 1995. С. 3-5.
- Гаврилов Д.В. Промышленная колонизация Урала в ХVIII -первой половине XIХ вв.: взаимодействие экономичеcких укладов и социокультур, экологические последствия//Россия и Восток... Часть II... С. 41-45.
- Бурганов А.Х. Россия и Восток: проблема исключительности//Россия и Восток... Часть I. Россия между Европой и Азией. Национальный вопрос и политические движения. Челябинск, 1995. С. 18-22.
- Тищенко В.Г. Историческое значение движения евразийства для современной России//Россия и Восток... Часть I... С. 118-121.