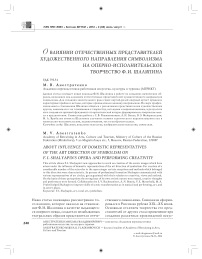О влиянии отечественных представителей художественного направления символизма на оперно-исполнительское творчество Ф. И. Шаляпина
Автор: Анестратенко Михаил Владимирович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание
Статья в выпуске: 4 (60), 2014 года.
Бесплатный доступ
Данная статья освещает новые подходы Ф. И. Шаляпина к работе по созданию сценических образов, возникших под влиянием отечественных представителей художественного направления символизма. Для создания значительного ряда своих партий-ролей оперный артист применял характерные приёмы и методы, которые принадлежали данному направлению. По мере профессионального становления Шаляпин общался с различными представителями художественных кругов, знакомился с их отношением к творчеству, взглядами и миропониманием, в результате чего создавался прочный фундамент его артистической натуры, формировались творческие мысли и предпочтения. Совместная работа с С. В. Рахманиновым, А. Н. Бенуа, В. Э. Мейерхольдом, М. А. Врубелем помогла Шаляпину улучшить навыки сценического перевоплощения как в музыкально-исполнительском, художественном, так и в актёрском планах.
Шаляпин, вокальное искусство, изобразительное искусство, символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14489797
IDR: 14489797 | УДК: 792.54
Текст научной статьи О влиянии отечественных представителей художественного направления символизма на оперно-исполнительское творчество Ф. И. Шаляпина
Наша статья посвящена рассмотрению того влияния, которое оказали на становление Ф. И. Шаляпина в качестве выдающегося оперного певца, создателя незабываемых театральных образов представители отече- ственного символизма. Символизм сформировался в России на рубеже XIX—XX веков. Основным отличием творчества его представителей от других стало применение при создании различных произведений искус-
АНЕСТРАТЕНКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ — соискатель Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма
ANESTRATENKO MIKHAIL VLADIMIROVICH — doctoral student of Academy of Retraining in Arts, Culture and Tourism
ства символов, намёков, благодаря которым раскрывалась их загадочная и таинственная сущность.
«Д. Мережковский утверждал три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности. М. Цветаева писала, что в жизни символиста всё символ (не-символов нет)» [1, с. 112].
Среди представителей данного художественного направления в музыке можно назвать С. В. Рахманинова. Знакомство Шаляпина с одним из выдающихся композиторов конца XIX — начала XX века состоялось в 1897 году. Дружба и общение с ним растянулись на всю жизнь оперного артиста, оказав существенное влияние на формирование его музыкальной эрудиции. Как композитор Рахманинов сумел реализовать собственный индивидуальный авторский стиль, объединив при создании произведений принципы московской и петербургской композиторской школ. «Рахманинов синтезировал различные тенденции русского искусства, различные тематические и стилистические направления и объединил их под одним знаменателем — русским национальным стилем» [2, с. 453].
В мамонтовской опере двух гениев связывала работа над несколькими оперными постановками. Среди них: «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Русалка» А. Даргомыжского, «Рогнеда» А. Серова и др.
Рахманинов, которого С. И. Мамонтов принял в Частную русскую оперу на должность второго дирижёра, помогал Шаляпину «раскрывать» каждый воплощаемый им образ с музыкальной стороны. Он обращал внимание артиста на различные «нюансы» в нотном тексте разучиваемых партий, такие как фразировка, акцент, пауза и др. Шаляпину было свойственно внезапное ускорение темпа и смещение ритма. Такая исполнительская «особенность» заметна у него во многих сохранившихся аудиозаписях. Рахманинов предлагал артисту следовать музыкальной логике фразы, то есть ос- мысленно подходить к каждому «перерыву» в нотном тексте, а не стремиться к нему как можно скорее, несмотря ни на что. По его мнению, каждый композитор закладывал определённый смысл в задуманные паузы.
Невозможно утверждать, кто из двух гениев влиял на товарища больше, но то, что это влияние не было односторонним — факт. Об этом свидетельствуют две оперы («Франческа да Римини» и «Скупой рыцарь»), созданные Рахманиновым в расчёте на то, что Шаляпин будет исполнять в них главные роли. Но этим творческим планам, по различным причинам, не удалось воплотиться в жизнь, хотя обе оперы были поставлены в 1906 году в Большом театре.
Не менее плодотворной была работа Шаляпина над оперой «Борис Годунов» в 1908 году в Париже, в ходе которой он познакомился с уже известным в то время художником — А. Н. Бенуа. Эта постановка прошла с огромным успехом и нашла отклик у «избалованной» французской публики. Успех её был обусловлен тщательной и плодотворной работой оперного артиста, которая слилась воедино с трудами великого живописца. Каждый из участников данного творческого процесса извлёк для себя что-то новое. Бенуа и Шаляпин получили стимул, опыт и вдохновение для работы над следующим произведением — оперой Ж. Массне «Дон Кихот», главную роль которой артист начал готовить в 1909 году.
Параллельно с ознакомлением и проработкой музыкальной части роли Шаляпин разрабатывал его (Дона Кихота) характер, костюм и грим. Глубоко размышляя над образом, он делился своими впечатлениями с живописцем. Бенуа был мастером своего дела, знатоком западноевропейского искусства, культуры и истории, а Шаляпин ценил эти знания, потому что они были ему необходимы для осознания художественного образа. Артист обращался к Бенуа за помощью для создания эскизов не только Дона Кихота, но и Сальери, когда работал над этим образом из оперы Н. А. Римского-Кор- сакова «Моцарт и Сальери». Всё это помогло сформировать Шаляпину внешний облик данных персонажей.
Вкратце следует упомянуть ещё одного представителя художественного направления символизма, отечественного театрального деятеля и известного режиссёра В. Э. Мейерхольда — человека, который пытался создать совершенно новый музыкальный театр — как единый синтетический организм. Он назвал его «Театром Будущего». Вот, что по этому поводу пишет исследователь С. В. Семиколенова: «Рассматривая положения теории музыкальной драмы Р. Вагнера, В. Мейерхольд считает, что синтез искусств, положенный Вагнером в основу его теории, будет эволюционировать: живописец, дирижёр и режиссёр, составляющие звенья этого процесса, будут вносить в Театр Будущего всё новые творческие инициативы. Но этот синтез не может быть осуществлён без прихода нового актёра» [3, с. 91]. Человеком, представляющим собой тип «нового актёра», по эстетическому мировоззрению Мейерхольда, как раз являлся Шаляпин. Режиссёр говорил, что именно этот оперный артист сумел реализовать синтез искусств в своей творческой практике и призывал других артистов оперы и драмы следовать его примеру.
Также необходимо сказать о ещё одной выдающейся фигуре, повлиявшей на становление Шаляпина — М.А. Врубеле. «Врубель стал крупнейшим живописцем и декоратором своей эпохи, но он мог быть не менее значительным архитектором, скульптором… Эпоха Врубеля нуждалась в художниках такого универсального дарования, художниках-мудрецах, которым она могла бы доверить воплощение самой грандиозной и прекрасной своей мечты о слиянии — синтезе искусств; и Врубель был создан для этой культурной миссии» [4, с. 307].
Художественные произведения живописца, а в дальнейшем и личное общение с ним оказали сильное влияние на творческую карьеру молодого оперного артиста. С его произведениями Шаляпин познакомился ещё до начала их тесного сотрудничества — в Частной русской опере Мамонтова, когда юному артисту довелось исполнить роль Варяжского гостя из оперы-былины «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. Эскиз Врубеля к костюму и гриму для персонажа оперы был воплощён в жизнь на сцене шаляпинским талантом.
Совместная и плодотворная работа двух мастеров продолжилась при постановке в 1898 году оперы Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Советы живописца по воплощению этого образа (по эскизам Бенуа) Шаляпин принимал полностью. Можно утверждать, что молодой певец воплотил все режиссёрские идеи великого художника. Также наглядной «подсказкой» по формированию внешнего облика Сальери для него стал врубелевский рисунок, созданный в 1884 году. Насколько Шаляпин смог воплотить этот образ в жизнь свидетельствует фотография В. Шкафера, сделанная в 1898 году.
Хочется уделить внимание работе Шаляпина над ролью Демона из одноимённой оперы А. Г. Рубинштейна, которая была в жизнь благодаря иллюстрациям Врубеля к лермонтовскому «Демону». При исполнении этой роли молодой певец постарался выразить все основные черты этого персонажа, которые живописец передал в произведениях (такие как гордость, мятежность, сила, свободолюбие).
Здесь следует напомнить, что до 1905 года, когда состоялось первое выступление Шаляпина в этой роли, образ Демона трактовался более двадцати пяти лет так, как изображал его в своих картинах известный русский придворный художник М.А. Зичи. Достаточно взглянуть на иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова, выполненные Зичи, в первоначальном виде в качестве эскизов, датированные художником 1860-м годом, чтобы понять, как изменилось восприятие этого персонажа в глазах Шаляпина после знакомства с работами Врубеля. Среди них:
«Летящий Демон», «Демон над плачущей Тамарой», «Спящая Тамара и Демон», «Тамара в объятиях Демона», «Ангел с душой Тамары и Демон». Данные эскизы хранятся в настоящее время в Санкт-Петербурге, в музее Института русской литературы.
Изображения Демона у Зичи не лишены человеческих очертаний, выражают иногда более спокойные, «ангельские» душевные качества, чем чувства мятежного существа, имеющего стихийное начало. Врубелем, а затем и Шаляпиным, который разделял его взгляды на создание облика данного персонажа, из образа Демона постепенно были убраны «человеческие» черты. Об этом свидетельствует портрет артиста в роли Демона, выполненный А.Я. Головиным в 1906-м году, который ярко передаёт изменения в характере и поведении артиста на сцене, а также изменения костюма и грима, усиливающие психологическое воздействие на зрителя. Этот факт обозначает начало реформы в оперном искусстве России на рубеже ХIХ—ХХ веков. Её смысл заключался в смене шаблона оперных образов, в новой их трактовке, которая многократно усиливает воздействие на публику с помощью синтеза средств художественной выразительности.
Необходимо сказать и о влиянии врубе-левских панно, выполненных в 1896 году на темы из «Фауста» И. В. Гёте. Энергетический посыл и новизна образа Мефистофеля, изображённого Врубелем на двух панно («Мефистофель и ученик» и «Полёт Фауста и Мефистофеля»), Шаляпин взял за основу трактовки этой роли на долгие годы.
Итак, можно сделать вывод о том, что значительное влияние на формирование творческого мышления Ф. И. Шаляпина оказали представители символизма. Совместная работа с ними помогла певцу улучшить навыки сценического перевоплощения. Также артист осознал значение детализации, как в музыкально-исполнительском, художественном, так и в актёрском планах. Он стал больше работать над теми составляющими своей партии-роли, которые наиболее точно передавали характер персонажа. Такое же внимание артист уделял «внешней» стороне образа, тщательно продумывая собственные жесты, движения, музыкальные фразы, мимику лица и создавая отдельные элементы костюма и грима. Этим маэстро добивался передачи внутренней сущности героя оперы публике с первых моментов появления на сцене.
Список литературы О влиянии отечественных представителей художественного направления символизма на оперно-исполнительское творчество Ф. И. Шаляпина
- Кармин А. С. Основы культурологии. Морфология культуры. Санкт-Петербург, 1997. 512 с.
- Келдыш Ю. В. Музыкальная энциклопедия. Москва: Советский композитор, 1982. 672 с.
- Семиколенова С. В. Фёдор Иванович Шаляпин (1873-1938) и русский драматический театр конца XIX -первой четверти XX века: дис. на соискание уч. степ. кандидата искусствоведения/С. В. Семиколенова. -Москва, 2011. 187 с.
- Суздалев П. К. Врубель. Москва: Советский художник, 1991. 368 с.