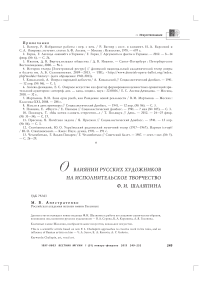О влиянии русских художников на исполнительское творчество Ф. И. Шаляпина
Автор: Анестратенко Михаил Владимирович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание
Статья в выпуске: 1 (51), 2013 года.
Бесплатный доступ
Данная статья освещает новые подходы Ф. И. Шаляпина к работе по созданию сценических образов, возникших под влиянием русских художников - В. А. Серова, К. А. Коровина, А. Я. Головина.
Шаляпин, изобразительное искусство, вокальное искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/14489407
IDR: 14489407 | УДК: 792.03
Текст научной статьи О влиянии русских художников на исполнительское творчество Ф. И. Шаляпина
1997–0803 ВЕСТНИК МГУКИ 1 (51) январь–февраль 2013 249–252
Большое влияние на исполнительское творчество Ф. И. Шаляпина, по созданию самобытных сценических образов, оказали русские художники. Среди них отметим фигуры В.А. Серова, К.А. Коровина, А.Я. Головина.
Именно в беседах с последним у певца возник новый подход к работе над ролью Мефистофеля из одноименной оперы А. Бойто. Он заключался в применении так называемого «скульптурного» образа, который отличался от предыдущего внешнего облика Мефистофеля из «Фауста» Ш. Гуно, граничащего с монументализмом, созданного под влиянием М.А. Врубеля. Шаляпину хотелось осуществить «в камне» силуэт духа зла, его оболочку, а нутро изобразить зыбким, постоянно меняющимся и приспосабливающимся к обстоятельствам, происходящим на сцене, но вот-вот готовым «вырваться» наружу из своеобразного «панциря», подобно раскаленной лаве, вылетающей из жерла вулкана при извержении. Маэстро считал, что «...никакие краски костюма, никакие пятна грима в отдельности не могут… заменить остроты и таинственного холода голой скульптурной линии. Элемент скульптуры вообще присущ театру, он есть во всяком жесте, — но в роли Мефистофеля скульптура в чистом виде прямая необходимость и первооснова… Это острые кости в беспрестанном скульптурном действии» [5, с. 80].
Идеи, примененные им при создании образа Мефистофеля Бойто в 1901 году в Милане, нашли горячий отклик в сердцах простых итальянских слушателей и творческой интеллигенции.
Так, о бойтовском Мефистофеле Э.А. Старк писал следующее: «Мысль о человеческом далека, когда созерцаешь этот кошмарный призрак, неизвестно откуда явившийся, неведомо как повисший в бездонной пропасти меж облаков. Длинный, узкий, гибкий, он кажется жутким видением…» [4, с. 78].
На этом творческий союз Головина и Шаляпина не прекратился и нашел свое продолжение в 1904 году в Мариинском театре. У артиста возникло желание «переосмыслить» неизменную с 1874 года постановку оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» и саму трактовку образа главного героя, что было с большой симпатией воспринято Головиным. Творческие идеи певца заключались в смене внешнего облика персонажей и сценических декораций на более реалистические и исторически достоверные. Живописец взялся за создание декораций и костюмов к спектаклю, детально подойдя к изучению истории той эпохи.
Этот подход художника перенял и молодой артист, знакомясь в процессе создания образа с различными артефактами эпохи Смутного времени, а также с историческими документами и литературными источниками.
В процессе творческого взаимодействия двух гениев были заложены важнейшие основы для этой постановки, которые включали художественно-историческую и музыкально-драматическую составляющие. Первая воплотилась в достоверно выполненных декорациях, созданных живописцем, которые отражали данный этап русской истории. Вторая — представляла собой шаляпинскую интерпретацию трагедии А.С. Пушкина и музыки М.П. Мусоргского.
Также заслуживают внимания долгая и крепкая дружба и плодотворный союз, которые связывали В.А. Серова и Шаляпина. Этот творческий дуэт сложился в процессе их работы в мамонтовской опере.
Ярким примером взаимного сотрудничества была работа над образом Олоферна в опере А.Н. Серова «Юдифь». Следует отметить тот факт, что образ Олоферна не предавался изменениям более 35 лет с момента премьеры оперы Серова в 1863 году. По свидетельствам музыкальных критиков того времени, а также оценкам В.А. Серова, ассирийского царя исполняли в манере типичного персонажа «героя-любовника» из итальянской комической оперы.
Это прослеживается на фотографиях таких артистов, как А.П. Антоновский (фото 1890 года) и М.И. Сариотти (фото 1878 года),
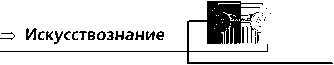
исполнявших роль Олоферна ранее. Образы древнеассирийского царя, созданные ими и запечатленные на фотографиях, являются ярким примером шаблонного исполнения этой роли.
Благодаря новаторским идеям и совместным усилиям Шаляпина и В.А. Серова образ Олоферна был реформирован. Живописца интересовала внутренняя психология изображаемых персонажей. Этот же аспект привлекал Шаляпина при создании своих ролей. Вдвоем они пришли к выводу о необходимости проведения анализа исторических древнеассирийских барельефов, для того чтобы найти средства выразительности, усиливающие воздействие на публику.
В их беседах рождались черты нового облика ассирийского деспота. Вместе продумывая каждый жест и позу древнего правителя, они в своих рассуждениях пришли к идее создания скульптурности и лаконичности данного образа.
Серов создал эскиз внешнего облика Олоферна в виде сурового каменного барельефа, который впоследствии нашел отклик и признание у публики. Эта трактовка образа обрела успех благодаря слиянию художественного восприятия живописца и глубинного осмысления роли самим артистом, что явилось очередной ступенью в совершенствовании профессионального мастерства молодого певца. Данный факт подтверждают сохранившиеся фотографии Шаляпина в этой роли и впечатления самого маэстро: «…я играл Олоферна суровым каменным барельефом, одухотворенным силой, страстью и грозным величием. Успех Олоферна превзошел все ожидания… Я смею думать, однако, что я первый на сцене попробовал осуществить такое вольное новшество» [5, с. 84—85].
Следует сказать, что изменения претерпел не только образ Олоферна, но и вся опера целиком. Серов создал принципиально новые декорации города Древней Ассирии. Такое «преображение» театральной постановки было отмечено положительными отзывами Б.В. Асафьева, который выразил мнение, что обновленный спектакль приобрел черты «монументальности».
Творческая деятельность Шаляпина вдохновляла Серова на создание художественных произведений и эскизов, отражающих облик артиста в различных ролях или некоторые фрагменты его жизни. За долгое время знакомства с молодым певцом Серову удалось создать более двадцати таких картин и эскизов.
Не менее плодотворным было сотрудничество певца с выдающимся художником-импрессионистом К.А. Коровиным. Директор Императорских театров В.А. Теляков-ский считал, что этот живописец был наиболее идейно близок Шаляпину, понимал его характер, поддерживал в минуты творческих исканий и делал критические замечания, что благотворно сказывалось на становлении динамично развивающейся личности артиста.
Совместная работа в мамонтовской опере началась с того момента, когда Коровин писал декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Псковитянка», а также помогал Шаляпину создавать костюм Грозного.
Асафьев отмечал, что благодаря стараниям великого живописца шаляпинские образы были лаконично закончены, вызывая у зрителя яркие эмоции и полноту восприятия.
Ярчайшей страницей их творческого союза стала постановка оперы «Демон» А.Г. Рубинштейна, к которой Коровин создал декорации. К этой работе он подошел с особым волнением, так как очень любил горные пейзажи Кавказа. По воспоминаниям очевидцев, оформление спектакля было очень удачным и истинно передавало дух поэмы М.Ю. Лермонтова. Созерцая процесс создания декораций, Шаляпин начинал обдумывать существование своего образа в данной сценической обстановке, учитывая все до мелочей: жесты, движения, позы. Прочувствовать роль ему помог и сценический костюм, созданный Коровиным под влиянием врубелевских полотен, который явился несомненным шедевром, а также важным атрибутом для воплощения образа
«Духа познанья и свободы». Это позволило образу Демона гармонично «слиться воедино» со сценическим фоном. Данный факт подтверждается сохранившимся изображением артиста в этой роли (картина А.Я. Головина).
В результате полученного опыта Шаляпин осознал, что необходимо не только вести линию своего персонажа, но и органично сосуществовать с тем миром и теми обстоятельствами, которые предлагают ему то или иное музыкальное произведение и сценические декорации. В дальнейшем вышеуказанными приемами певец сумел неоднократно воспользоваться при создании других образов, известнейших всему миру.
Однако самым ярким совместным творением артиста и живописца явилась их работа над постановкой оперы Мусоргского «Хованщина» (1897 год). Молодого певца волновал вопрос создания реалистичного образа Досифея, и он неоднократно обращался за советом к великому русскому художнику. Тут интересную роль сыграло не только мастерство живописца, но и его происхождение. Коровин вышел из семьи старо- обрядцев, поэтому для певца он стал важным источником достоверной информации, которая помогла ему воплотить свою роль. Рассказы художника о семейном быте, приведение старообрядческих молитв, сохранившихся в его памяти, знакомили Шаляпина с мировосприятием этих людей, их взглядами на устройство мира и собственную жизнь.
Благодаря такому подходу к изучению роли, полученным знаниям и эскизам живописца певец создал многогранный образ Досифея, в котором сочетаются такие черты, как религиозность, фанатизм, гнев, покой и мудрость.
Итак, мы видим, что общение с русскими художниками плодотворно повлияло на работу Шаляпина над различными сценическими образами. Артист пришел к выводу о необходимости их тщательной проработки в опере. Эта «проработка» заключалась:
-
1) в предварительном анализе изображений реально существовавших личностей прошлых эпох;
-
2) в создании целостного и многогранного образа;
-
3) в уходе от типичности.