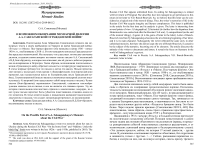О возможном окончании мемуарной дилогии А.А. Саксаганской о гражданской войне
Автор: Симонова Ольга Алексеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Мемуаристика
Статья в выпуске: 4 (51), 2019 года.
Бесплатный доступ
Писательница Анна Абрамовна Саксаганская оставила два мемуарных текста о своем пребывании на Украине во время Гражданской войны: «В тылу» и «Махно. Под черным флагом» (оба написаны в конце 1920 - начале 1930-х гг., опубликованы в 2018 г.). В этом мемуарном комплексе Гражданская война предстает неоконченной. Мы полагаем, что существует логическое окончание дилогии, созданное самим автором: им можно считать письмо А.А. Саксаганской к В.Д. Бонч-Бруевичу, в котором она описывает, как ей удалось добиться разрешения на возвращение в Петроград. Таким образом, воспоминания писательницы о жизни в Гражданскую войну обретают цельность и литературную завершенность. В статье впервые публикуется это письмо и дается его анализ. Письмо представляет интерес с нескольких точек зрения: 1) биографической, 2) исторической (оно проясняет, как осуществлялся выезд из Екатеринослава после Гражданской войны), 3) композиционной (письмо является окончанием мемуарной дилогии писательницы), 4) жанровой (оно представляет собой жанр письма в письме). Чужое письмо (Бонч-Бруевича), переписанное Саксаганской, становится текстообразующим началом для ее письма, и оно же является его главным героем. Эту же историю писательница впоследствии отразила в неоконченных мемуарах, но в них чужое письмо перестает быть субъектом повествования, становясь одним из его элементов. В статье делается вывод о повышенном внимании Саксаганской к документам и письмам, что создает литературоцентричность ее воспоминаний.
Гражданская война, а.а. саксаганская, в.д. бонч-бруевич, воспоминания, письмо в письме
Короткий адрес: https://sciup.org/149127224
IDR: 149127224 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00112
Текст научной статьи О возможном окончании мемуарной дилогии А.А. Саксаганской о гражданской войне
Писательница Анна Абрамовна Саксаганская (урожд. Немировская; 1868, Верхнеднепровск - 1939, Ленинград) оставила два мемуарных текста о Гражданской войне: «В тылу» и «Махно. Под черным флагом». Они были написаны еще в конце 1920 - начале 1930-х гг, но опубликованы нашими усилиями только в 2018 г. [Симонова 2018; Саксаганская 2018 а; Саксаганская 2018 Ь]. Воспоминания описывают время пребывания писательницы на Украине в 1918-1919 гг.
Два логически связанных между собой мемуарных текста были написаны в обратном их содержанию хронологическом порядке. Последовательность написания воспоминаний обусловила разное окончание каждого из мемуаров. Написанный раньше, чем «В тылу», но рассказывающий о позже происходившем, текст «Махно. Под черным флагом» имеет финал, создающий кольцевую композицию самого мемуара. Так, начинается он с захвата Екатеринослава махновцами, а оканчивается их бегством из города и наступлением других войск: «Раздалось бряцание шпор. Это были белые. Через неделю пришли красные» [Саксаганская 2018 Ь, 448]. Все повествование, таким образом, очень строго ограничено пространством и временем - полутора месяцами конца 1919 г. в Екатеринославе.
Писавшийся в 1933 г. мемуар «В тылу» в большей степени претендует на политическое осмысление событий. Позиция повествователя в самом начале задана как позиция объективного исследователя (правда, в процессе развертывания событий повествователь сменяется рассказчиком, и от политических сентенций автор переходит к беллетристическому стилю): «Это далекое прошлое, сейчас это история 17-летней давности, - другая эпоха. Я успокоилась и вспоминаю пережитое объективно, без содрогания и ненависти, только с грустью. <...> Сейчас, расценивая пережитые события, я смотрю на них, как на всякую историю, сквозь призму трезвого беспристрастного суждения и подвожу итоги» [Саксаганская 2018 а, 347].
При гетмане П.П. Скоропадском, правившем с весны 1918 г, въезд на Украину был разрешен только лицам, в ней родившимся. Действие ме-муара «В тылу» начинается с описания хлопот Саксаганской о получении разрешения для ее служанки Елены (сама писательница родилась на Украине). Пять дней посещения украинского консульства не увенчались успехом, пока Саксаганской не помог случайно встретившийся знакомый земляк, занимавший пост в Министерстве земледелия. Написанное им ручательство за благонадежность Елены открыло писательнице дорогу на родину. Содержание документа осталось за границами воспоминаний, а в тексте причудливым образом сохранился его рудимент - только подпись: «Действительный Статский Советник Н.А.К.» (подразумевается, что в Петрограде 1918 г. носитель этого звания еще имел влияние). Как свидетельствуют разыскания украинского исследователя Ю.П. Кравца, по всей вероятности, речь идет о действительном статском советнике Николае Александровиче Капустине, бывшем земском начальнике 1 -го участка Александровского уезда Екатеринославской губернии, который позднее занимал должность помощника управляющего Земским отделом МВД по сельской продовольственной части.
Упоминание этого письма, возможно, не имело бы большого значения, если бы включение его в текст не повлияло на общую структуру мемуарного комплекса Саксаганской. Именно письмо санкционировало путешествие и, таким образом, дало толчок развитию действия - описанию жизни во время Гражданской войны. Итак, начало мемуарной дилогии включает два важных момента: учреждение, от которого зависит возможность переезда, и волшебное письмо, дающее право уехать.
Финал мемуара «В тылу» свидетельствует о рамочном обрамлении текста; вновь звучит голос повествователя, который шаблонно патетически произносит: «Вскоре, со взятием Перекопа, прекратилась Гражданская война, и началась новая социалистическая жизнь великой стройки, [принеся] мир, спокойствие и величие стране благодаря умелой дипломатии народных вождей и правильному разрешению национального вопроса» [Саксаганская 2018 а, 380]. Претендующее на авторскую оценку исхода Гражданской войны высказывание оказывается в то же время конъюнктурно правильным. Таким образом, воспоминания «В тылу» получили свое завершение, будучи обрамленными врезками от повествователя, а мемуар «Махно. Под черным флагом» будто бы требует продолжения, ведь в нем Гражданская война предстает неоконченной. Мы полагаем, что существует созданное автором логическое окончание мемуарной дилогии. Им можно считать публикуемое ниже письмо Саксаганской к В.Д. Бонч-Бруевичу.
Прежде всего нужно пояснить, что попытки писательницы опубликовать воспоминания сопровождались многократными письменными обращениями к директору Литературного музея Бонч-Бруевичу. Письма помогают понять позицию автора воспоминаний (как непосредственного участника событий и «достоверного» их описателя), определить время на- писания мемуаров и отражают попытки их опубликовать [Симонова 2018, 343-345]. В письмах обнаруживаются и биографические факты, самым важным из которых для нас является возвращение Саксаганской в Петроград. Ему посвящено целое письмо, датировать которое можно июнем 1932 г. (по фразе в письме Саксаганской Бонч-Бруевичу от 10 июня 1932 г: «На днях вышлю вам ваше личное письмо, т<о> е<сть> мною переписанное, и так же мою приписку, какую службу сослужило оно мне» [Саксаган-ская, Письма, 16 об.]). Мы приведем письмо полностью по сохранившемуся автографу (НИОР РЕБ. Ф. 369. К. 328. Ед. хр. 28. Л. 13-14 об.). Оно предваряется переписанным рукой Саксаганской письмом Бонч-Бруевича, включенным в авторский текст:
3 июля 1918 г.
Многоуважаемая Анна Абрамовна!
Я очень опасаюсь, что скоро издать вашей книги не удастся, т<ак> к<ак> совсем не те вопросы теперь стоят на очереди. Если бы вы нашли возможным издать ее в другом месте, для вас это скорее решило бы вопрос, т<ак> к<ак> мне отнюдь не представляется в ближайшем будущем ее издание.
Готовый к услугам
В. Бонч-Бруевич.
Многоуважаемый Владимир Дмитриевич!
Посылаю Вам текст вашего письма, которое неожиданно сослужило большую мне службу. Письмо я получила в <19>18 году за день до моего отъезда на Украину. Оно меня сильно огорчило, и я его сунула в сумку. Чувства мои вам, конечно, понятны, как литератору - рушились мои мечты быть изданной вами как спецом литературы, и моя карьера> как беллетристки (помимо драматурга) была бы обеспечена, а теперь, несмотря <на то>, что меня издавало еще два издателя, отодвигалась на неопределенное время. Не понимаю, как это письмо около 2х лет (даже больше) пролежало в уголке кармашка сумки. Украина тогда представляла огнедышащий вулкан и, естественно, что я могла забыть о нем. Я ехала на Украину, мою родину, к моей сестре, думая пробыть там 3 мес<яца>, но благодаря войне (гражданской) я застряла. Ужасов перетерпела не мало, вы можете судить отчасти, хотя далеко не обо всем, по моему описанию о Махно.
Наконец, в <19>20 г<оду> красные утвердились на Украине и я, невзирая на все трудности, которые лежали на моем пути, чтобы получить право на выезд из Екатеринослава, ринулась хлопотать повсюду, где только было учреждение, относящееся к этому вопросу. Я хлопотал<а> более полугода, я валялась (буквально) на панели с раннего утра, чтобы попасть одной из первых на прием. Тысячная толпа, среди которой и я находилась, - ждали мы под дождем, бурей, ураганом приема. Но все было тщетно, редкому счастливцу удавалось вырваться из города. Наконец, после долгих мытарств, измученная бессонными ночами, я была принята начальником, грозным гимназистом, еще не снявшим гимназического кушака с бляхой, лет 16-17, по обе его стороны стояли два вооруженных казака. Я подала ему мои бумаги. Едва взглянув на них, он потребовал у меня

бумагу от фининспектора. И как я его ни уверяла в том, что я писательница и не занимаюсь никакими делами, что я командирована Драмсоюзом, показала бумагу с внушительными печатями, мой глас был гласом вопиющего в пустыне. Я принуждена была уйти. Состояние мое было близко к самоубийству. Снова я на мученическом крыльце, где столько ночей не спала и дум передумала. - Вы обратили внимание, Владимир Дмитриевич, что толпа, имея общую идеею: родственн<о> близок, каждый брат друг другу, не зная ни социального положения один другого, ни имени, ни звания, общая забота связывает всех в один тесный узел. Так было и со мной. Вид у меня был более чем драматический и, вероятно, возбудил сочувствие толпы. Некоторые из них обратились ко мне с вопросом: «Отказано?» Я ответила утвердительно. - «Может быть, у вас есть протекция?» Я ответила, что я из Петрограда и в городе никого не знаю. (Голос): «Но, может быть, какое-нибудь письмо?» Меня вдруг словно обухом ударило по голове. Я схватила свою старенькую, истрепанную сумку, которую не раз вырывала из рук озверелых бандитов и сунула руку в разорванные кармашки. И о радость! Я имею письмо от Бонч-Бруевича! Тот (голос): «Что же вам еще нужно?» «К кому мне обратиться?» «В совнарком <ошибка Саксаганской, этим словом она называет какое-то советское учреждение в Екатеринославе - О.С>, обогните этот угол, дверь справа». Я полетела без крыльев. Вбегаю, спрашиваю начальника. «Вам что надо?» (это был сам начальник лет 35—<3>7), - предупредительно и корректно. «Почему мне не дают (кричу и крепко зажала Ваше письмо с расплывшимися строками) право на выезд? Я из Петрограда, я приехала в Е<катеринослав> временно и благодаря Граж<данской> войне застряла. Я больше полугода хлопочу об отъезде, и мне не дают разрешения, а сейчас потребовали какую-то справку от фининспектора». - «Кто вас здесь знает?» «Вот кто меня знает!» Хлопаю я ладонью по вашему маленькому, но многозначительному письму, и энергично кладу его перед очами начальника. Он взглянул на подпись, и мгновенно лицо его приняло выражение, трудно определить, но мне показалось, что он хочет стать передо мною во фронт. «Так что же еще нужно?» - крикнул он, и поспешно в одну секунду я получила право на выезд.
Спасибо за далекую услугу, надеюсь, и впредь не забудете.
Анна Саксаганская [Саксаганская, Письма, 13-14 об.].
Очевидно, что в художественном отношении это малоталантливое и даже малограмотное произведение, так как преследуемые автором цели были вовсе не литературные, а этикетные. Но вместе с тем письмо чрезвычайно важно в нескольких отношениях. Во-первых, оно освещает факт биографии Саксаганской. Известно, что Саксаганская служила в екатери-нославской библиотеке в 1919-1921 гг, потом в 1921-1923 гг. - воспитательницей в детском доме в Петрограде [Саксаганская, Ходатайство, 13]. Письмо уточняет месяц, когда она покинула Петроград, - июль 1918 г. - и проясняет обстоятельства ее отъезда с Украины в 1921 г.
Во-вторых, письмо интересно с исторической точки зрения - оно вносит дополнительные штрихи к тому, как осуществлялся выезд из Екате-ринослава во время Гражданской войны. В нем живописно описаны и бесконечные очереди, пребывание в которых требовало много времени и терпения; и колоритная фигура красноармейского начальника - грозного гимназиста, воплощающего новые советские порядки; и характерное требование разрешения от фининспектора, и легкость выезда для связанных с большевиками людей.
В-третьих, оно является завершающим штрихом в автобиографическом описании жизни Саксаганской на Украине. Воспоминания «В тылу» начинались с хлопот о санкции на въезд, приведенное письмо описывает усилия по поводу получения разрешения на выезд из Екатеринослава. Так оно вписывается в композицию воспоминаний, завершая текст тем же набором обстоятельств, что и в начале: так же возникает пресловутая контора, в которой действенно только случайным образом оказавшееся в руках Саксаганской письмо от сильного мира сего. У мемуарной дилогии появляется окончание, созданное в жанре письма, но стилистически приближающееся к тексту воспоминаний. Повествование в нем беллетризова-но, события нагнетаются, подчеркивается трагизм положения автора: «Я хлопотал<а> более полугода, я валялась (буквально) на панели с раннего утра, чтобы попасть одной из первых на прием. Тысячная толпа, среди которой и я находилась, - ждали мы под дождем, бурей, ураганом приема». Перечисление страданий Саксаганской рассчитано на сочувствие адресата («после долгих мытарств, измученная бессонными ночами»). Литературность стиля писательницы выражена и в том, что она воспроизводит диалоги, используя авторские ремарки, то есть использует приемы написания пьесы (вспомним, что она драматург). Ее письмо включает несколько сценок с диалогами.
В приведенном письме есть художественный прием, который неоднократно появляется в воспоминаниях: в других местах дилогии также описываются документы, значение которых настолько велико, что они каждый раз спасают жизнь писательницы. В мемуаре «В тылу» это справка из Драмсоюза, которая выручает ее во время налетов разных армий: «Мне несколько раз приходилось отражать воинственные набеги бравых воинов от нашего двора, благодаря моему званию писательницы. Со мной всегда находилась данная мне из Драмсоюза справка о том, что писательница Анна Абрамовна Саксаганская командируется в гор<од> Екатеринослав, чтобы взять отчетность у театрального агента и т. д. Вот этой бумажкой я спасала двор. Звание писательницы оказывало на многих грамотных бандитов магическое действие» [Саксаганская 2018 а, 370] (мотив с той же спасительной справкой - в рассматриваемом письме). В мемуаре о Махно это записки Волина, которые становятся ее охранной грамотой, она называет их «отменой смертной казни, по крайней мере, десяти человек» и описывает, какой эффект они произвели у собиравшихся казнить ее махновцев: «Внезапно разорвавшаяся бомба поразила бы их меньше, нежели мои записки. Записки переходят из рук в руки. Сразу перемена» [Саксаганская 2018 Ь, 435]. (Спасительный эффект документов становится лейтмотивом ее эго-текста в целом: в одном из писем Бонч-Бруевичу она отзывается об упомянутом письме Волина: оно «спасло меня от ужасной смерти под пытками, на которые был так горазд Батько» [Саксаганская, Письма, 23 об.]). Наконец, здесь - письмо Бонч-Бруевича, которое оказывает такое же влияние на большевиков, как письмо статского советника -на консульских чиновников.
Вообще, в художественных произведениях о Гражданской войне известна роль спасительных писем, которые при необходимости заменяют документ и помогают выдать себя за того, кого нужно (см., например, повесть «Школа» Гайдара). Но у Саксаганской внимание к бумагам чрезмерно. Так, у каждой героини повествования был свой документ, которым она подтверждала свое право на жизнь: «Я лично не боялась за себя, бумажка, удостоверяющая мою личность, всегда была со мной. Что касается Юлии Ибрагимовны и Елены, - им тоже не грозила опасность; у Юлии Ибрагимовны был портрет Али - штабс-капитана, ее мужа, а Елена - крестьянка. Все, по-видимому слагалось в нашу пользу» [Саксаганская 2018 а, 372].
В то же время такое значение бумаги приобретают именно в пределах созданного автором художественного мира, что в очередной раз свидетельствует о принадлежности приведенного письма к мемуарному комплексу. Впоследствии, обобщая эти факты, писательница подчеркнет литературоцентричность своей жизни: «В моих воспоминаниях “Под черным флагом” и “В тылу” я описываю мои переживания во время гражданской войны, где жизнь всякого гражданина висела на волоске; пожалуй, меня спасала моя Литература, это была моя защита и, как ни странным может показаться, я в самую опасную минуту заявляла: “я писательница”, и отъявленные убийцы относились ко мне с уважением» [Саксаганская, Дополнение, 17 об.].
В реальной жизни значение документов было для нее не так сильно. Как утверждает Саксаганская, у нее было письмо от Ленина, которое она при отъезде в Екатеринослав спокойно сдала на склад со своими вещами, и впоследствии оно пропало при реквизиции ее имущества [Саксаганская, Письма, 7]. Трудно поверить в то, что Саксаганская, зная степень важности официальных бумаг, могла так легко расстаться с письмом от главы государства, если только это осознание не пришло к ней за годы Гражданской войны. В любом случае, в отношении писательницы к официальным бумагам очевиден имеющийся зазор в ее художественных произведениях и житейском быту.
И еще один момент, который мы хотим подчеркнуть, размышляя о форме этого письма: это практически не исследованный жанр письма в письме, достойный отдельного рассмотрения. Чужое письмо дает Саксаганской толчок к написанию собственного, при этом структурно входя в него. Оно является отправной точкой повествования и, больше, поводом для его развертывания. Как отметил П.Х. Торой, «работы М. Бахтина положили основу интересу к поэтике “чужого слова” в его самых разных проявлениях. Один из важных выводов М. Бахтина - диалогичность “чужого слова” и всего текста, заставляет думать и о принципах поведения одного текста в другом (интекста)» [Торон 1981, 33]. В данном случае чужое письмо становится текстообразующим началом для письма Саксаган-ской, и оно же является его главным героем. В изложении Саксаганской письмо Бонч-Бруевича становится главным действующим персонажем реально бывшей с ней истории. Поэтому приведение его полного текста необходимо автору, писательница включает его в свое письмо. Проявление почтительности к Бонч-Бруевичу выражается в том, что писательница не пересказывает письмо, а приводит полностью. Это определенный этикетный жест: чужой текст оформлен как чужой - это текст адресата, не апроприированный писательницей. В то же время существование письма Бонч-Бруевича в целостном виде, с этикетными формулами, подписью и датой, позволяет представить его в качестве отдельного субъекта.
Как, согласно бахтинской концепции, разные точки зрения создают конфликтность в едином тексте, так чужой текст становится конфликтно образующим в судьбе писательницы. У письма Бонч-Бруевича двоякая роль: в Петрограде оно означало конец карьеры беллетристки, на Украине оно выручает Саксаганскую в момент получения разрешения на выезд. Письмо приобретает жизнетворческую функцию - сначала оно разрушает судьбу писательницы, потом налаживает. В то же время, кроме свидетельств самой писательницы, у нас нет документальных подтверждений о значении этого письма в ее жизни. С одной стороны, нет оснований подвергать рассказанное сомнению, но с другой - несомненна литерату-роцентричность текста, повествование разворачивается вокруг письма Бонч-Бруевича. По сути, перед нами рассказ о судьбе письма. Это детективная история, в которой повествование начинается с разгадки. Сначала писательница приводит текст письма, которое оказалось важным для нее. А уже потом рассказывает об обстоятельствах его получения, о том, как оно ее огорчило, о том, как она забыла о нем на два года. И завершающий аккорд - предоставление его начальнику советского учреждения и произведенный им эффект (обратный тому, который в свое время испытала она). Любопытно, что само письмо «с расплывшимися строчками» сохранилось [Саксаганская, Альбом, 102-103], оно вклеено Саксаганской в альбом с письмами и отзывами разных лиц о ее творчестве, что подтверждает важность его для писательницы.
Характерно, что существует не единственный вариант приведенного письма Саксаганской. Сохранился его черновик, написанный теми же чернилами на таких же листах в клетку формата А4, обрывающийся фразой «Когда я пришла домой» [Бонч-Бруевич, Письма, 1-2 об.]. Кроме того, по-видимому, в середине 1930-х гг. Саксаганская писала воспоминания, в которых пыталась отразить свою творческую биографию и основные события жизни [Саксаганская, Дополнение, 1-32]. Они создавались уже после воспоминаний о Гражданской войне; в них писательница описывает события своего отъезда с Украины. Так содержание письма занимает свое законное место в мемуарном тексте Саксаганской. Но в целом эти мемуары остались незавершенными, остается неясной их композиция, нет и чистового варианта. Хотя незаконченные мемуары формально являются последним авторским текстом, приведенное письмо к Бонч-Бруевичу обладает перед ними выраженным преимуществом. Оно писалось как автономный текст, было ориентировано на читателя и прочитано.
Между тем, в соответствующем отрывке воспоминаний дано больше подробностей, и некоторые аспекты хлопот Саксаганской описаны иначе. Так, она мотивирует свой отъезд: на нее угнетающе действовали «голод, разруха, растерянность, безыдейность» [Саксаганская, Дополнение, 8]. Она объясняет сложности с выездом: «Никто не имел права выехать без разрешения коменданта. <...> Только командировочные имели право на выезд, остальная публика хоть умирай» [Саксаганская, Дополнение, 8]. Ю.П. Кравец отмечает маловероятность ее рассказа, так как каких-либо сведений о запретах или ограничениях на выезд населения из Екатеринос-лава в конце 1920-1921 гг. не имеется.
В неоконченных воспоминаниях более реалистично, по сравнению с письмом, обозначено время ее пребывания в очередях: хлопотала она не более полугода, а неделю до того, как попасть к коменданту. Появляется отсылка к началу воспоминаний - упоминанием их героини служанки Елены. Оказалось, что Саксаганская отправила ее в Петроград годом ранее с латышом-офицером. Далее Саксаганская описывает свой характер: «Сестра меня называла прямо сумасшедшей, но раз я задалась целью, я должна выполнить ее» [Саксаганская, Дополнение, 8]. Вообще, представление себя в образе сильной, бесстрашной, целеустремленной героини -лейтмотив как ее воспоминаний о Гражданской войне, так и неоконченного фрагмента.
Стилистически выравнивается и портретно заостряется образ начальника: «Наконец, через неделю, дошла моя очередь. Я зашла в комендантскую. Два громадных казака, вооруженных, стояли подле юного гимназиста, не успевшего снять с себя гимназической рубашки, стянутой кушаком, с бляхой. Он грозно посмотрел на меня, пощипывая несуществующие усы, и ломающимся голосом спросил: - Что Вам?». Усиливается здесь и карикатурность ситуации: начальник приказывает вывести просительницу, на что Саксаганская реагирует с иронией: «Я не дождалась услуг казаков, ушла» [Саксаганская, Дополнение, 8 об.]. В своем письме она не упоминает о том, как в толпе ей сказали, что нужно было дать взятку гимназисту.
Стирается болезненность эффекта, произведенного на нее письмом Бонч-Бруевича: «В <19>18 году Вл<адимир> Дм<итриевич> должен был в своем издательстве издать том моих рассказов, но так как он в <19>18 году вошел в правительство В<ладимира> Ильича Ленина, издательские дела были им ликвидированы. Он мне написал письмо данного содержания» [Саксаганская, Дополнение, 9]. Письмо Бонч-Бруевича перестает быть субъектом повествования, становясь одним из его элементов, - этот момент подчеркивает, что перед нами другой текст, имеющий иные задачи и жанровое исполнение.
Далее - начальник советского учреждения изображен не один: «За сто- лом сидело трое, очень прилично одетых средних лет мужчин» [Сакса-ганская, Дополнение, 10]. И время снова приобретает более правдоподобные очертания: не «поспешно в одну секунду», а «через десять минут за подписью комиссара я получила не только пропуск, но и билет на выезд» [Саксаганская, Дополнение, 10]. Очевидно, здесь ошибка памяти мемуаристки: билет на поезд комиссар не мог ей дать.
Смысловой акцент повествования переносится, в черновике мемуаров кульминацией становится не обнаружение письма, а показ его родным: «“Вот билет и пропуск”, - почти шепотом от сильного переутомления сказала я, бросив на стол драгоценные бумаги. Вокруг столпились соседи, родные, рассматривая мандат на выезд. Ахали и охали. Это было так же тяжело, как достать звезду с неба» [Саксаганская Дополнение, 10-10 об.]. Судьбоносное значение бумаг и внимание к ним родных писательницы повторяет момент из воспоминаний «Под черным флагом»: «Вбегаю к сестре, сажусь, чувствую, как подкашиваются ноги, бросаю записки на стол, сестра с мужем, бледные до синевы, схватывают их» [Саксаганская 2018 Ь, 435].
Характерно, что финал мемуарного фрагмента, как и начало воспоминаний «В тылу», переводит на обобщения, повествование завершается риторическим вопросом: «О возвратном пути в Петроград не стану описывать. Это был тяжелый сон. Все вагоны были переполнены до отказа. От напора человеческих тел поднимались со своих мест более слабые. Вонь, ругань, одичанье, озверелые люди.
В каком столетии живу я?» [Саксаганская, Дополнение, 10 об.]. Возможно, этот мемуарный фрагмент еще в большей степени, чем приведенное письмо, можно было бы признать окончанием мемуарного комплекса - им создается кольцевая композиция, в которой начало и конец рифмуются риторическими сентенциями. Но, на наш взгляд, этот черновой вариант не обладает цельностью и завершенностью, характерными для письма к Бонч-Бруевичу. Поэтому последнее мы считаем, по формальным признакам, окончанием мемуарного комплекса о Гражданской войне, обосновывая это тем, что оно - автономный текст, завершенный автором.
Кроме того, с точки зрения жанра приведенное письмо оказалось интересным для анализа: воспроизведение письма Бонч-Бруевича целостным текстом в письме Саксаганской делает возможным разговор о нем как об отдельном персонаже. Его субъектная, ролевая функция кажется важнее текстовой включенности в письмо Саксаганской, что, впрочем, не умаляет значения наличия письма в письме. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, как малозначительное, на первый взгляд, частное письмо оказывается не только комментарием к биографии его автора, но и провоцирует разговор о границах художественного текста и функциональных особенностях жанра письма в письме.
Список литературы О возможном окончании мемуарной дилогии А.А. Саксаганской о гражданской войне
- Бонч-Бруевич В.Д. Письма к А.А. Саксаганской // РО ИРЛИ РАН. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 203.
- Саксаганская А.А. Альбом со стихотворениями и др. // РО ИРЛИ РАН. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 201.
- Саксаганская А.А. Дополнение к воспоминаниям о Махно // РО ИРЛИ РАН. Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 200. Л. 1-32.
- (a) Саксаганская А. В тылу / подгот. текста и коммент. О.А. Симоновой // Историография гражданской войны в России. Исследования и публикации архивных материалов / отв. ред., сост. Д.С. Московская. М., 2018. С. 347-380.
- (b) Саксаганская А. Махно. Под черным флагом / подгот. текста О.А. Симоновой, коммент. Ю.П. Кравца и О.А. Симоновой // Историография гражданской войны в России. Исследования и публикации архивных материалов / отв. ред., сост. Д.С. Московская. М., 2018. С. 381-448.
- Саксаганская А.А. Письма к В.Д. Бонч-Бруевичу // НИОР РГБ. Ф. 369. К. 328. Ед. хр. 28.
- Саксаганская А.А. Ходатайство о получении персональной пенсии в Наркомпрос на имя А.В. Луначарского. Личная карта инвалида, испрашивающего назначение персональной пенсии или пособия // ГАРФ. Ф. 539. Оп. 3. Ед. хр. 5749.
- Симонова О.А. Мемуары А.А. Саксаганской о Гражданской войне в Екатеринославе // Историография гражданской войны в России. Исследования и публикации архивных материалов / отв. ред., сост. Д.С. Московская. М., 2018. С. 337-346.
- Тороп П.X. Проблема интекста // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 567. Текст в тексте. Труды по знаковым системам XIV. Тарту, 1981. С. 33-44.