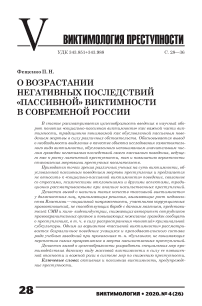О возрастании негативных последствий "пассивной" виктимности в современной России
Автор: Фещенко П.Н.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Виктимология преступности
Статья в выпуске: 4 (26), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается целесообразность введения в научный оборот понятия «социально-пассивная виктимность» как важной части виктимности, традиционно понимаемой как обусловленной пассивным поведением жертвы в силу различных обстоятельств. Обосновывается вывод о необходимости выделения в качестве объекта исследования самостоятельного вида виктимности, обусловленного непониманием значительным числом граждан негативных последствий своего пассивного поведения, ведущего как к росту латентной преступности, так и повышению вероятности становления жертвами преступных посягательств. Приводятся точки зрения различных ученых на суть виктимности, обусловленной пассивным поведением жертвы преступления и предлагается не относить к «социально-пассивной виктимности» поведение, связанное со стрессами, психическими отклонениями и другими аспектами, традиционно рассматриваемыми при анализе насильственных преступлений. Делается вывод о наличии таких качеств «пассивной виктимности» у должностных лиц, принимающих решения, вызывающие рост недовольства Властями - социальной напряженности, участников коррупционных правоотношений, не способствующих борьбе с данным явлением, представителей СМИ и кино- видеоиндустрии, снижающих авторитет сотрудников правоохранительных органов и повышающих нежелание граждан сообщать о преступлениях, в т. ч. в силу распространения «понятий» криминальной субкультуры. Одним из вариантов «пассивной виктимности» рассматривается безразличное поведение учащихся и преподавательского состава ряда учебных заведений при проявлениях т. н. «буллинга», не понимающих перспектив самих превратиться в жертв насильственных преступлений. Делается вывод о целесообразности разработки специальных мер противодействия данному виду массовой виктимности в силу ее повышенной опасности и важной роли в системе мер по снижению преступности.
Активная и пассивная виктимность, предупреждение преступности
Короткий адрес: https://sciup.org/14118744
IDR: 14118744 | УДК: 343.851+343.988
Текст научной статьи О возрастании негативных последствий "пассивной" виктимности в современной России
Сегодня, как представляется, складывается парадоксальная ситуация,
В то же время, как представляется, достижение показателя «повышение качества жизни»2 как одного из стратеги- когда о задаче существенного снижения ческих национальных приоритетов невоз- преступности как массового негатив- можно отделить от задачи существенного ного явлении никто, кроме криминологов, не говорит как о проблеме. Ежегодно выявляется около 1 млн преступников — перечеркиваются перспективы их благополучной жизни, как и их детей и других членов семей. Полмиллиона находятся в местах лишения свободы — одни выходят, другие заходят… Ежегодно минимум полмиллиона человек становятся жертвами разного рода преступлений против собственности, теряя сбережения, имущество нервы и т. д. и т. п. Уже 20 лет зарегистрированная преступность находится ежегодно на уровне выше 2 млн преступлений.
Но у нас нигде не ставится задача снизить эти цифры, например, в два раза, к 2030 или 2050 году, как, например, число бедных. Из показателей, по которым Центр оценивает губернаторов регионов, в 2019 году исключена «пре-ступность»1. Как справедливо указывает Ю. В. Голик, «у нас в стране нет ни одного органа, который мог бы дать объективную и объемную картину преступности. В лучшем случае мы можем получить набор цифр» [2, с. 10].
На наш взгляд, это связано с происшедшим отходом от коммунистической идеологии, где прямо ставилась цель построения коммунизма к конкретному году и, как следствие, полной ликвидации преступности. Сегодня даже в учебни- ках указывается, что преступность — это вечное явление… А раз «вечное», то есть и более актуальные проблемы сегодняшнего дня. Как указывает Ю. М. Антонян, «в целом преступность можно определить как вечное, изменчивое, исторически обу- словленное, массовое, социальное и правовое явление» [1, с. 63].
снижения преступности, тяжести последствий и числа жертв — уже пострадавших сегодня, а также — по 2 млн в год — ежегодно до 2030 года.
Одним из путей эффективного снижения преступности является виктимо-логическая профилактика, включенная в 2016 году в основные направления деятельности в соответствии с федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» № 182-ФЗ. В этом вопросе, имеющем также много проблем, на наш взгляд еще есть место и для дополнительного рассмотрения конкретных видов виктимности, их содержания и специфики мер предупреждения.
В данной статье речь будет идти о рассмотрении т. н. «пассивной» виктимности, по нашему мнению, имеющей сегодня негативные тенденции роста и повышения тяжести последствий, ее содержании и мерах противодействия.
Постановка проблемы
Как представляется, для криминологов сегодня уже нет проблемы в понимании виктимности, ее причин и мер противодействия. Эта проблема, скорее всего, может возникать у сотрудников различных структур — субъектов профилактики, как не имеющих юридического образования — педагогов, психологов, управленцев и т. д., так и юристов, получивших дипломы в последние годы, когда было принято решение об исключении «Криминологии» из перечня обязательных для изучения дисциплин. Хорошо, что такое решение было пару лет назад отменено, в т. ч. в результате постоянных обращений криминологов в самые высо- кие инстанции.
Для этой категории специалистов проблема может решаться традиционным путем обучения, подготовки различных
«Памяток» и «Методик», прохождения курсов повышения квалификации и т. д. В то же время именно для специалистов-криминологов сегодня есть необходимость более глубокой разработки отдельных направлений виктимологи-ческой профилактики, приобретающих в последнее время всё большую актуальность.
На наш взгляд, к такой проблеме следует отнести акцентирование внимания на т. н. «пассивной» виктимности, которая проявляется в нежелании жертвы что-то делать для изменения ситуации. В одном случае такая пассивность ведет к рецидиву преступлений и увеличению тяжести последствий, в другом — к безнаказанности преступника и росту профессионализма, в третьем — к самосуду, суициду и иным негативным последствиям.
Из всего многообразия проявлений «пассивной виктимности» нам бы хотелось сосредоточить внимание на двух аспектах: причинах ее массовости и последствиях для национальной безопасности. На наш взгляд, косвенным показателем величины носителей «пассивной виктимности» может являться размер латентной преступности, при этом оба явления, по нашему мнению, имеют одни и те же причины, которые более подробно будут рассмотрены далее. Особенно остро эта проблема касается коррупции, где латентная составляющая превышает зарегистрированную часть в сотни раз и затрагивает права и свободы миллионов граждан.
Описание и результаты исследования
Исследование научной литературы и материалов практики, в том числе 25-летний опыт работы в правоохранительных органах и почти такой же последующий стаж преподавания «Криминологии» и участия в работе Всероссийских научно-практических конференций, проводимых «Российской криминологической ассоциацией», позволяют сделать следующие выводы по существу рассматриваемой проблемы:
Во-первых, применительно к понятию «пассивной» виктимности, мы предлагаем ее рассматривать как составную часть «невиновной» виктимности, в которую входят личностная, ролевая и ситуативная. На наш взгляд, «ролевую» из «пассивной» в рассматриваемом аспекте следует исключить, поскольку мы считаем, что «пассивная» предполагает наличие выбора — делать что-то или нет, по аналогии с понятием «деяния», состоящего из двух элементов. Выбор реальной или потенциальной жертвой делается в пользу отсутствия активности, например, не сообщать о коррупции в силу опасения негативных последствий лично для себя. Для таких жертв мы предлагаем использовать понятие «социально-пассивная» жертва и именно их рассматривать далее.
Как указывает А. В. Майоров, «понятия в науке обладают различной степенью абстрактности для того, чтобы имелась возможность их использования при описании теоретических моделей (гипотез)…» [4, с. 10].
Применительно к «пассивной» виктимности исследователи применяют сходные понятия:
— по мнению О. В. Каменских, «имеются пассивные жертвы, которые не оказывали сопротивления преступнику даже при наличии объективной возможности оказать противодействие либо скрыться…» [3, с. 41]. Здесь речь идет о стрессе при внезапном разбойном нападении, и таких мы не относим к рассматриваемому типу;
— по мнению Н. В. Сплавской, «пассивные жертвы обладают низким уровнем правосознания» [7]. С этим мы согласны, и об этом речь пойдет ниже.
Суть «социально-пассивной» виктимности — в непонимании перспектив наступления негативных последствий, отсутствии знания истории, легкомысленном отношении к перспективам ущерба как для своих интересов, так и интересов и ценностей общества и государства.
На наш взгляд, сюда не следует относить «пассивных жертв» в понимании Д. В. Ривмана: это «не оказывающие сопротивления, противодействия преступнику по различным причинам; объективно не способные к сопротивлению (стабильно или временно), способные к сопротивлению».
В определенной степени сюда может быть применено его определение «некритичных потерпевших», куда входят «лица, демонстрирующие неосмотрительность, неумение правильно оценить жизненные ситуации: с низким образовательным уровнем, низким интеллектом, несовершеннолетние, лица преклонного возраста, больные, в том числе психически больные, некритичные без очевидных «формализованных» качеств» [6, с. 55], только без акцента на низкий образовательный уровень, интеллект и психические заболевания, о чем будет сказано ниже.
Что касается причин «социально-пассивной» виктимности, то они, как уже указывалось, аналогичны хорошо известным криминологам причинамобразова-ния латентной преступности.
В первую очередь, на наш взгляд, следует обратить внимание на отсутствие чувства самосохранения у многих должностных лиц и законодателей, а также представителей бизнес-сообщества. Принимаемые решения, рассчитанные на сиюминутную выгоду, отсутствие мер по снижению массового недовольства населения — социальной напряженности, погоня за удовлетворением лично своих завышенных и гипертрофированных потребностей без учета многомиллионной массы недовольных и бедных граждан неминуемо приведет к массовым беспорядкам и жертвам.
В этом же аспекте можно согласиться с мнением С. А. Тимко, что «…незнание, а чаще халатное, безрассудное отношение потенциальной жертвы к вероятности совершения преступления вполне можно считать одним из криминогенных факторов… Нередко повышенная виктимность является следствием низкой правовой культуры» [8, с. 37—38].
Стремление в последние десятилетия на всех уровнях не рассматривать причины Октябрьской революции 1917 года, как минимум, привели к тому, что сегодня вряд ли кто назовет изложенные в работах В. И. Ленина, а затем успешно использованные на практике, признаки «революционной ситуации», которые раньше знал каждый студент каждого советского вуза, в т. ч. будущий «управленец».
Вместо этого заинтересованные исследователи стали изучать работы зарубежных теоретиков «цветных революций» и «управляемого хаоса», но, как представляется, не делая из этого нужных выводов.
Сегодня мы видим, что одни «управленцы» постоянно повышают тарифы, другие — цены на газ и бензин, третьи — на сахарный песок или гречку, четвертые — заставляют покупать новые автомобильные аптечки и т. д. и т. п. Годами и десятилетиями не решаются вопросы газификации сел, ремонта дорог, больниц, школ и т. д. Всё это вызывает недовольство населения, а в г. Кирове, например, совсем недавно один из жителей написал очередное за пять лет прошение, привязал к кирпичу и закинул в окно здания Правительства…1
В итоге только усиливается негативное отношение к власти в целом и возрастает опасность «цветной революции», на недопустимость которой как раз и указал Президент2. А раз Президент поставил задачу — от каждого требуются конкретные дела — применительно к криминологам — выявлять проблемы и предлагать пути решения.
Как указывает один из авторов «теории управляемого хаоса» Стивен Манн, вроде бы не связанные между собой единым замыслом, такие игнорируемые «чиновниками» проблемы, как песчинки, со временем складываются в лавину, которая сметает Власть3. Тех самых, кто не принимал меры к устранению проблем, носителей «социально-пассивной» виктимности. Очень показателен в этом плане финальный сюжет в фильме Н. С. Михалкова «Солнечный удар», когда представители элиты царской России, посаженные большевиками в баржу, перед тем, как их утопили, с горечью говорят: «Мы ведь видели, что всё плохо, но думали, что проблемы устранит кто-то другой…» (цитата из фильма).
Вторая проблема — недоверие правоохранительным органам. Причины пассивного поведения кроются как в собственном или чужом негативном опыте, так и в распространении в СМИ и молодежной среде принципов «воровской морали», категорически не допускающей какое-либо сотрудничество с «людьми в погонах». Хотелось бы надеяться, что принятое в 2020 году решение о запрете АУЕ приведет в итоге к реальной «чистке» СМИ от трансляции «криминальных норм и понятий» — от фильмов до песен и т. д.
Кроме того, совершенно необходимо формировать в обществе позитивный облик сотрудника правоохранительных органов, находя реальных героев и показывая их позитивную деятельность, включая, как раньше, даже стихи для школьников и фильмы для юношества. Конечно, не поздно еще и вновь переименовать «полицию» в «народную милицию», поскольку она действительно должна быть «народной», как Власть, депутаты и т. д. Невозможно представить, как бы в Беларуси народ воспринял переименование милиции в полицию, где каждая семья помнит зверства полицаев во время Великой Отечественной войны. Помнят, конечно, и в России…
В этом же аспекте, как представляется, не следует создавать и показывать фильмы, формирующие негативный образ сотрудников правоохранительных органов. Вроде бы что такого — фильм-то про 30—40—50 годы, а сотрудник показан как садист, алкоголик, аморальный тип, жестокий надзиратель в ГУЛАГе и т. д. И остается «облик», переносящийся на сегодняшних честных и порядочных сотрудников.
На эту проблему «пассивно» пока смотрят законодатели, постановщики фильмов и иной видеопродукции, не хотят прослыть сторонниками цензуры. В итоге падает авторитет и уверенность в правоте своей деятельности у сотрудников правоохранительных органов — а это одна из задач организаторов «цветных революций», жертвами которых в силу «пассивной» виктимности все они в итоге и могут стать, если анализировать итоги «тюльпановой революции», «революции роз»
и других недавних событий в соседних с нами государствах1.
Следующий аспект проблемы — эгоизм и отсутствие ориентации на общие для российского народа ценности, проживание по принципу «Моя хата с краю», «Своя рубашка ближе к телу». Частным случаем здесь являет принцип «Моя семья выше интересов Родины» — зачем сообщать в «органы» о готовящем теракт члене семьи? Пусть пострадают невинные, а я уйду от уголовной ответственности в соответствии с Примечанием к ст. 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации.
А завтра такого «пассивного» гражданина или взорвет другой террорист, о котором тоже родственники не сообщили, или его найдут и убьют «кровники» и т. д.
Конечно, следует помнить, что в силу «активной» виктимности членами семьи был зверски убит Павлик Морозов, но ему Родиной был поставлен Памятник, к которому до сих пор не зарастает народная тропа — он думал о Стране и Народе. Конечно, это дело каждого — что выбрать и носителем какой виктимности в итоге оказаться.
Более частым случаем в силу нововведений законодательства может считаться ситуация, когда такая «жертва» в итоге из «дворца» переедет в обычную квартиру после обращения в доход государства коррупционно нажитого главой семейства имущества.2
Важным в рассматриваемом аспекте эгоизма является вся коррупция, когда граждане пытаются решить лично свои проблемы в обход Закона, сохраняя неприкосновенность конкретного чиновника «на всякий случай», для повторного обращения или в качестве долговременной «крыши», создавая в итоге в обществе атмосферу допустимости коррупционного поведения. В итоге сам такой носитель «пассивной» виктимности, как и огромное множество других субъектов коррупционных правоотношений, становятся реальными жертвами нищеты в силу того, что в условиях безнаказанности всё более и более высокопоставленные должностные лица расхищают миллиарды лично для себя1, заставляя других чиновников повышать тарифы и т. д. и т. п.
Не исключено, что получив какую-то услугу за взятку и промолчав, этот же носитель «пассивной» виктимности в другой раз останется без плановой операции, т. к. кто-то другой заплатил больше, или станет жертвой преступника, ушедшего за взятку от наказания…
-
1 В частности, суд взыскал 32,5 млрд рублейв доход государства — денежные средства бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова (Суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей // Новости Mail.ru. URL: https://news.mail . ru/incident/43828470/?frommail=1 (дата обращения 20.10.2020)); В конце 2019 года было принято решение о конфискации у экс-главы Марий-Эл имущества на 2,2 млрд рублей: 16 автомашин, 950 предметов роскоши, 122 объекта недвижимости (Экс-главе Марий Эл усилили конфискацию // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4485108#id911278 (дата обращения 20.10.2020)) и др. (прим. автора).
-
8. Тимко, С. А. Виктимность как следствие низкой правовой культуры населения / С. А. Тим-ко // Виктимология. — 2018. — № 1 (15). — С. 37—43.
-
9. Фещенко, П. Н. Виктимологический аспект формирования нетерпимости к коррупционным проявлениям / П. Н. Фещенко // Виктимология. — 2020. — № 1 (23). — С. 66—73.
Большую роль здесь должна сыграть масштабная работа по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, хотя здесь пока много вопросов теоретического и практического характера [9].
Еще одной из проблем можно считать рост насильственных преступлений в школах, где жертвами становятся школьники и учителя, «пассивно» относившиеся к проявлениям травли (буллинга), не понимая, чем это в итоге может для них же и закончиться [5].
Заключение
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что выделение в качестве самостоятельного объекта исследования «социально-пассивной» виктимности приведет к необходимости решения целого ряда насущных проблем, в итоге реально могущих повлиять в положительном плане на решение граждан о сотрудничестве с правоохранительными органами и снижение преступности в сегодняшних российских условиях.
Дата поступления статьи в редакцию: 02.12.2020.
Список литературы О возрастании негативных последствий "пассивной" виктимности в современной России
- Антонян, Ю. М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. -523 с.
- Голик, Ю. В. Борьба с преступностью как проблема / Ю. В. Голик // Преступность, уголовная политика, закон: сборник трудов Всероссийской науч.-практ. конф. (Москва, 26-27 января 2016 года) / под ред. проф. А. И. Долговой. - Москва: Российская криминологическая ассоциация, 2016. - С. 9-13.
- Каменских, О. В. Виктимологическая профилактика корыстно-насильственных преступлений (грабежей и разбойных нападений) совершаемых в общественных местах и на улицах на примере УрФО / О. В. Каменских // Виктимология. - 2019. - № 1 (19). - С. 40-45.
- Майоров, А. В. Противодействие преступности: виктимологический аспект / А. В. Майоров // Законность и правопорядок. - 2019. - № 1 (21). - С. 8-12.
- Мосечкин, И. Н. Виктимологические аспекты противодействия вооруженным нападениям на учебные заведения (SCHOOL-SHOOTING) / И. Н. Мосечкин // Виктимология. - 2019. - № 1 (19). - С. 46-53.
- Ривман, Д. В. Криминальная виктимология / Д. В. Ривман // Universal Internet Library: электронная библиотека. - URL: https://www.universalinternetlibrary.ru/book/33065/ogl.shtml (дата обращения 26.11.2020).
- Сплавская, Н. В. Правосознание молодежи как фактор их повышенной виктимности / Н. В. Сплавская // Виктимология. - 2015. - № 3 (5). - С. 24-28.
- Тимко, С. А. Виктимность как следствие низкой правовой культуры населения / С. А. Тимко // Виктимология. - 2018. - № 1 (15). - С. 37-43.
- Фещенко, П. Н. Виктимологический аспект формирования нетерпимости к коррупционным проявлениям / П. Н. Фещенко // Виктимология. - 2020. - № 1 (23). - С. 66-73.