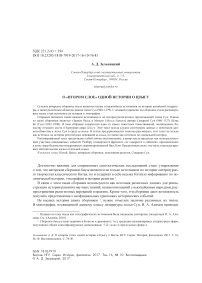О "втором слое" одной истории о Цзыгу
Автор: Зельницкий А.Д.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Лингвистика и литература Восточной Азии
Статья в выпуске: 10 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Сунские авторские сборники бицзи являются одним из важнейших источников по истории китайской литературы, а также различным областям знания эпохи Сун (960-1279). С недавнего времени эти сборники стали рассматривать также и как источники по истории и этнографии. Сборники являются также важным источником и по истории религиозных представлений эпохи Сун. Одним из таких сборников является «Записи бесед в Мэнси» (Мэнси битань) автора Северной Сун (960-1127) Шэнь Ко (Гуа) (1032-1096). В этом сборнике содержится одно из самых известных повествований, посвященных божеству отхожего места «Пурпурная дева» Цзыгу. Этот текст всегда служил источником данных о почитании данного божества в эпоху Сун в среде шэньши. В статье предпринимается попытка рассмотреть этот текст не только как источник по истории религиозных верований шэньши, но также как источник по социальной истории. Рассматриваемый текст представляет собой личное воспоминание, а автор текста предстает как непосредственный участник описываемых событий. Разбору подвергается фрагмент, где говорится о событиях, произошедших в доме главы Ведомства императорских жертвоприношений Ван Луня. Предположительно, эта часть текста раскрывает обстоятельства жизни отдельной семьи.
Китай, цзыгу, авторские сборники, популярная религия, северная сун
Короткий адрес: https://sciup.org/147219719
IDR: 147219719 | УДК: 221.2-43 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-10-76-81
Текст научной статьи О "втором слое" одной истории о Цзыгу
Достаточно важным для современных синологических исследований стало утверждение о том, что авторские сборники бицзи являются не только источником по истории литературного творчества классического Китая, но и содержат в себе весьма богатую информацию по политической истории, этнографии и истории религии 1.
В связи с этим такие сборники используются как источник различных данных для реконструкции истории развития научных знаний, взаимоотношений с некитайскими народами, распространения религиозных верований и практик. Кроме того, эти сборники дают возможность получить представление о неофициальных трактовках исторических событий.
Не касаясь истории самих сборников 2, нужно отметить наличие различных их типов. В монографии, посвященной данному классу литературы эпохи Сун, И. А. Алимов приводит несколько вариантов классификации сборников бицзи, предложенных китайскими исследователями. Эти классификации составлены по доминирующей тематике, с учетом тематического разнообразия сборников. Всего И. А. Алимов выделяет три класса сборников: содержащие в основном тексты повествовательного характера (小說故事筆記 сяошо гуши бицзи); содержащие тексты, дополняющие официальные исторические своды (歷史瑣聞筆記 лиши совэнь бицзи) и содержащие наблюдения научного характера, почерпнутые из других сочинений, а также сведения по археологии, этимологии, текстологии и др. (叢考雜辨筆記 цункао цзабянь бицзи) [Алимов, 2009. С. 134–135].
Как видно из приведенной классификации, специальных сборников, содержащих в себе именно «истории об удивительном», не было. Однако в сборниках, относящихся к первому классу, содержались тексты, которые можно охарактеризовать именно как продолжения более ранней традиции «рассказов о чудесном» ( 志怪小說 чжигуай сяошо ) 3.
Тексты этой группы давно привлекали исследователей религиозной повседневности Китая. Так, их обильно цитировал Я. Я. М. де Гроот в своих трудах, посвященных теме религиозной жизни традиционного Китая. Однако практически всегда эти тексты использовались именно как некий «резервуар», в котором содержатся сведения о религиозных, мифологических и магических представлениях. При этом тексты носят автобиографический характер, а значит, могут быть источником по истории повседневности, показывая, как именно характерные для эпохи верования и практики могли связываться с другими сторонами социальной жизни той эпохи.
Для анализа был выбран текст, посвященный божеству отхожего места ( 廁神 цэ шэнь ) «Пурпурная дева» ( Цзыгу ), культ которого прослеживается примерно с V в. и которое с того же времени становится персонажем литературы сяошо 4. В фигуре Цзыгу достаточно рано пересеклись две традиции – низовая традиция почитания сельскохозяйственного божества 5 и литературная традиция представителей знати. Причем к эпохе Сун это божество уже прочно занимает свое место в культуре имперской элиты, что, скорее всего, было обусловлено освоением ее образа в рамках литературной традиции.
Выбранный текст относится ко второй половине XI в. Участники описываемых в нем событий относятся к той же среде, что и автор – к среде высокопоставленных образованных людей, объединенных близкими эстетическими и мировоззренческими установками. При этом сам автор является непосредственным участником событий.
Текст принадлежит кисти Шэнь Ко 沈括 (1032–1096) 6 и входит в обширный свод «Записи бесед в Мэнси» ( 夢溪筆談 Мэнси битань ), который был написан в период с 1082/1086 по 1092/1093 гг. Большая часть этого свода составлена во время пребывания автора в поместье «Сад у речки из грез» ( 夢溪苑 Мэнсиюань ) 7, в Жуньчжоу 潤州 , где он жил после выхода в отставку [Алимов, 2009. С. 342–343]. Текст входит в 21 цзюань «Мэнси битань», который носит название «Дополнение об удивительных делах и удивительных болезнях» ( 異事異病附 И ши и бин фу ) [Шэнь Ко, 2001. С. 134–135].
В произведении рассказывается о практике почитания Цзыгу во времена жизни автора и о происшествии, случившемся в доме главы «Ведомства императорских жертвоприношений» ( 太常博士 тайчан боши ) Ван Луня. Шэнь Ко рассказывает историю о том, что в младшую дочь Ван Луня вселилась Цзыгу, в результате чего она стала писать изящные тексты десятью ранее неизвестными почерками, изданные потом под названием «Собрание девы-сяня»
( 女仙集 Нюй сянь цзи ). Сообщается также о том, что Цзыгу являлась в дом сама в виде девушки, по пояс погруженной в облако и исполняющей прекрасные мелодии на чжэне. Кроме того, текст Шэнь Ко сообщает о попытке дочери Ван Луня взобраться на облако к божеству и уйти вместе с ним. Правда, отмечается, что эта попытка не увенчалась успехом. Наконец, Шэнь Ко замечает, что, как только дочь Ван Луня вышла замуж, все прекратилось, и семья, по словам автора, «лишилась источника предсказаний горя и удачи» 8 [Алимов, 2013. С. 98–99].
Что касается практики вызывания Цзыгу, то здесь Шэнь Ко обращает внимание на ее древность и популярность в его эпоху – до такой степени, что ею увлекаются даже дети. Кроме того, автор отмечает, что этот дух весьма активен на культурном поприще: это выражается в гаданиях, исцелении болезней, в написании им стихов и прозаических произведений, в игре в облавные шашки. Наконец, в тексте приводится история, которую Цзыгу якобы рассказывала о себе как о небожительнице, изгнанной с острова Пэнлай (это указывает на отчетливые даосские коннотации).
Интересно, что серьезных буддийских отсылок в тексте Шэнь Ко нет. Но в строках, описывающих попытки дочери Ван Луня забраться к деве-духу, последней в уста вкладывается замечание о том, что на туфлях девушки слишком много «загрязненной земли» ( 穢土 хуэй ту ). Данное выражение можно трактовать как буддийский термин, противоположный понятию «чистая земля» ( 淨土 цзин ту ) и использовавшийся для обозначения мира Сансары 9.
По-видимому, одним из первых, кто обратил внимание на этот текст, был Я. Я. М. де Гроот. Поскольку его интерес касался исследований религиозной системы современного ему Китая, этот текст послужил ему иллюстрацией медиумической традиции и круга ритуалов начала года [Groot, 1964. Р. 398–399; Гроот, 2001. С. 431–432]. Возможно, именно он задал стиль прочтения этого текста как иллюстрации к истории культа в конкретную эпоху. Не отрицая разумность такого подхода, можно рассмотреть его как документальное свидетельство о некоторых процессах, происходящих в высших слоях общества Северной Сун (960–1127).
Действительно, рассказ делится на две части: обрамляющую и центральную. Обрамляющая часть призвана задать контекст, внутри которого должен восприниматься основной сюжет о дочери Ван Луня. Именно в этой части говорится о распространенности культа и специфических «культурных умениях» духа. При этом Шэнь Ко пишет, что его родни это тоже коснулось. Таким образом, здесь отмечен интерес к практике вызова Цзыгу у представителей элиты.
Центральный сюжет тоже распадается на две части. В одной рассказывается история о том, как в дочь Ван Луня вошел дух, а во второй – история о явлении самого духа и попытках дочери подняться к нему. Эти два связанных друг с другом фрагмента могут дать важную информацию. Так, подсказкой к трактовке событий может стать замечание о том, что все события прекратились, как только дочь вышла замуж. Кроме того, не позволяет смотреть на текст Шэнь Ко лишь как на литературный вымысел фраза о том, что он записал то, что «видел своими глазами» ( 自目見 цзы му цзянь ) [Шэнь Ко, 2001. С. 134–135]. Понять, что же именно он подразумевает под «виденным своими глазами» непросто, однако важно, что он преподносит это именно как свое воспоминание 10.
Вероятно, дочь Ван Луня была образованной, она должна была обладать навыками чтения классиков и письма 11. В связи с этим можно предложить два толкования описываемых событий. Так, если она стремилась продемонстрировать свои умения и способности (которые, судя по всему, были незаурядными), то для максимальной свободы действий ей была нужна некая «божественная санкция». Это подтверждают эпизоды с «вхождением» в нее духа, что по- зволило ей экспериментировать с изобретением новых почерков 12. Таким образом, дочь Ван Луня могла использовать фигуру популярного божества как «обходной путь» для реализации своих персональных амбиций. Эта версия построена на гипотезе о «литературной» природе видений, выдвинутой С. В. Филоновым. Он обратил внимание на то, что безупречная и весьма изысканная проза, написанная прекрасным почерком, мало вяжется с состоянием медиумического транса как условием коммуникации с небожителями [Филонов, 2011. С. 111–116]. С другой стороны, дочь Ван Луня и другие домочадцы, действительно, могли верить в то, что тексты и почерка ей подсказывает божество. С точки зрения традиции, поддерживаемой даосами, высшие божества могли проявлять себя и без введения человека в сумеречное состояние 13.
Если первая часть центрального сюжета вызывает вопросы о внутренних побуждающих причинах поведения дочери Ван Луня, то вторая выглядит гораздо более сложной для понимания. Не очень понятно, входит ли она в круг «виденного своими глазами». Этот эпизод выглядит как типичная история сяошо с той разницей, что она связана с семьей, которую автор знал лично. Похоже, что этот сюжет, рассказанный самими членами семьи Ван, впоследствии воспринимался Шэнь Ко уже как собственное воспоминание. Вероятно, одной из причин возникновения этой истории было поведение дочери, пишущей странными почерками при вселении в нее духа. Возможно, упражнения в музицировании дочери Ван Луня не очень приветствовались частью конфуцианской элиты 14, для чего могла быть придумана история о музицирующем божестве. Сюжет же с облаком содержит скрытое порицание в адрес дочери, которая претендовала на особые отношения с «божественным». Замечание о невозможности подняться на облако и отказ божества могут намекать на желание дочери отказаться от мирской судьбы, что, видимо, не встретило понимания в семье 15 (семья не могла оставаться в этом вопросе в стороне 16).
Таким образом, анализ центрального сюжета произведения свидетельствует об использовании фигуры популярного божества как инструмента осуществления конкретной поведенческой стратегии, направленной на достижение целей личностной реализации. Кроме того, существует возможность обнаружить «второй слой» повествования, раскрывающий некоторые аспекты повседневной жизни современного автору общества.
Список литературы О "втором слое" одной истории о Цзыгу
- Алимов И. А. Китайские авторские сборники X-XIII вв. в очерках и переводах: Автореф. дисс. … д-ра ист. наук. СПб., 2010. 44 с.
- Алимов И. А. Лес записей: Китайские авторские сборники X-XIII вв. в очерках и переводах. СПб.: Петерб. востоковедение, 2009. 912 с.
- Алимов И. А. О культе Цзы-гу (по материалам сунского времени)//Религиозный мир Китая. Исследования. Материалы. Переводы (Orientalia et Classica: Тр. Ин-та вост. культур и античности. Вып. XLVIII). М.: РГГУ, 2013. С. 98-100.
- Белозерова В. Г. Эстетика каллиграфии//Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5 т./Гл. ред. М. Л. Титаренко. Т. 6 (доп.). Искусство. М.: Вост. лит., 2010. С. 171-177.
- Белозерова В. Г. Традиционное искусство Китая. В 2 т. Т. 1. Неолит -IX век/Отв. ред. М. Е. Кравцова (Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности. Выпуск LX). М.: Русс. фонд содействия образованию и науке; Ун-т Дмитрия Пожарского, 2016. 629 с.
- Го Ли. Цзыгу цэ шэнь таньси . Исследование духа отхожего места Цзыгу//Oriental Humanities. 2010. Vol. 9. № 1. С. 1-15. (на кит. яз.)
- Гроот Я. Я. М. де Война с демонами и обряды экзорцизма в Древнем Китае/Пер. с англ. Р. В. Котенко. СПб.: Изд. группа «Евразия», 2001. 448 с.
- Ма Шутянь. Чжунго миньцзянь чжу шэнь . Полный свод народных божеств Китая. Тайбэй: Гоцзя чубаньшэ, 2005. 380 с. (на кит. яз.)
- Мыльникова Ю. С. Правовое положение женщин в истории средневекового Китая (VII-XIII). СПб.: НП-ПРИНТ, 2014. 336 с.
- Филонов С. В. Золотые книги и нефритовые письмена: даосские письменные памятники III-VI веков. СПб.: Петерб. востоковедение, 2011. 656 с.
- Шэнь Ко. Записи бесед в Мэнси. Средний раздел//Собрание трудов Шэнь Ко . Мэнси битань. Чжун. Шэнь Ко чжу. Чжунго гудянь мин чжу. Цинпинго дяньцзы тушусиле. Бэйцзин: Дяньцзы чубаньшэ, 2001. C. 92-155 (на кит. яз.)
- Davis E. L. Society and the Supernatural in Song China. Honolulu: University of Havai'i Press, 2001. 355 p.
- Ebrey P. B. Women and the Family in Chinese History. London; NY: Routledge, 2003. 291 p.
- Groot, J. J. M. de The Religious System of China, its ancient forms, evolution, history and present aspect. Manners, customs and social institutions connected therewith/E. J. Brill, éditeur. Leiden, 1910. Vol. VI. Réimpression par Literature House, Ltd, Taipei, 1964. 424 p.
- Huang Chi-chiang. Pure Land Hermeneutics in the Song Dynasty: The Case of Zhanran Yuanzhao (1048-1116)//Chung-Hwa Buddhist Journal. Taipei: The Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies, 2000. № 13. P. 385-429.