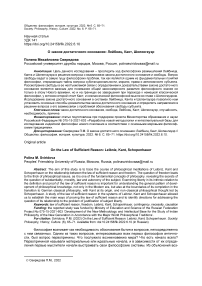О законе достаточного основания: Лейбниц, Кант, Шопенгауэр
Автор: Свиридова Полина Михайловна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель данного исследования - проследить ход философских размышлений Лейбница, Канта и Шопенгауэра в решении вопроса о взаимосвязи закона достаточного основания и свободы. Вопрос свободы ведет в самую гущу философских проблем, так как является одним из фундаментальных понятий философии, открывающих тайны вопроса субстанциональности, морали, права и автономности субъекта. Рассмотрение свободы в ее неотъемлемой связи с определением и доказательствами закона достаточного основания является важным для понимания общей закономерности развития философского знания не только в эпоху Нового времени, но и на границах ее завершения при переходе к немецкой классической философии, у истоков которой стоит Кант, и неклассической философской мысли во главе с Шопенгауэром. Исследование закона достаточного основания в системах Лейбница, Канта и Шопенгауэра позволило нам установить основные способы доказательства закона достаточного основания и определить направления в решении вопроса о его взаимосвязи с проблемой обоснования свободы субъекта.
Закон достаточного основания, свобода, лейбниц, кант, шопенгауэр, случайность, необходимость, причина
Короткий адрес: https://sciup.org/149140398
IDR: 149140398 | УДК: 141 | DOI: 10.24158/fik.2022.6.10
Текст научной статьи О законе достаточного основания: Лейбниц, Кант, Шопенгауэр
можной первопричины мира последовательно вытекал вопрос о том, как в этом мире сообразуются между собой явления и деятельность человека. Какую природу имеет эта связь и чему она подчиняется? В попытке объяснить происхождение существующего античные философы начали выражать первые формы закона причинности, а в IV в. до н. э. Аристотель сформулировал три главных закона классической логики - закон тождества, закон противоречия и закон исключенного третьего. Аристотель в своих трудах не сформулировал закон достаточного основания, однако предоставил для этого необходимые предпосылки.
Закон достаточного основания был сформулирован Готфридом Лейбницем и вызвал множество реакций, интерпретаций и споров касательно его определения, доказательств и сферы действия в различных областях философского знания. В первую очередь, после закона достаточного основания, по определению вводящего безграничную цепь причин и необходимо вытекающих из них следствий, возник очевидный вопрос - как закон достаточного основания может быть совместим с человеческой свободой и сферой нравственности, а вопрос о поиске первопричины, с которой начинается причинно-следственный ряд, все еще оставался актуальным. Философская традиция, начиная с XVII в., пыталась ответить на эти принципиально важные вопросы и изобрести способ совмещения закона основания со свободой. Так, одним мыслителям приходилось ограничивать сферу действия закона в попытке защитить свободу от его безграничной власти, другие вводили различение между видами закона основания, относящимся либо к сфере природы, либо к области моральной активности субъекта. Однако вопрос был поставлен, и избежать закона достаточного основания, не учитывать его роль вовсе уже стало невозможным.
Цель данного исследования - проследить ход философских размышлений Лейбница, Канта и Шопенгауэра в решении вопроса о взаимосвязи закона достаточного основания и свободы методом историко-философского анализа с применением таких логических приемов, как анализ, индукция, синтез и дедукция. В работе используются предложенные В. Виндельбандом методы историко-философского исследования: наивный описательный метод, генетический метод объяснения и умозрительный метод критики, а также метод ситуативной герменевтики Р.В. Псху (Псху, 2017).
Впервые формулировку закона достаточного основания Лейбниц вводит в своей работе «Опытам теодицеи о благости божией, свободе человека и начале зла», где пишет, что два начала умозаключений включают противоречие и достаточное основание. По закону достаточного основания Лейбница «ничто не случается без какой-либо причины или, по крайней мере, без достаточного основания» (Лейбниц, W82: 93). Лейбниц утверждает объективность случайности и ее неотъемлемую связь с определенной причиной, за единичной причиной всегда существуют закономерные связи, определяемые законом достаточного основания. Стоит ответить на вопрос: для чего Лейбницу понадобился закон достаточного основания? Существовал принцип тождества (A есть A), являющий себя в форме взаимной пропозиции. Принцип тождества может действовать взаимообратным способом, но может и детерминировать пропозиции, исключая обратимость, но оставляя включение. За этим следует, соответственно, что всякая аналитическая пропозиция истинна. Лейбниц настаивает на взаимообратной пропозиции и утверждает, что всякая истинная пропозиция аналитическая. Причем по взаимообратному принципу тождества требуется, чтобы всякая истинная пропозиция не просто была аналитической, а являлась таковой с необходимостью. И здесь возникает принцип достаточного основания. Выраженная выше формулировка закона приобретает интересный поворот - не просто «ничего не делается без достаточного основания», а необходимо, чтобы все, что говорится о субъекте, содержалось в его понятии (Делёз, 2015: 25). За утверждением необходимости основания у всякой вещи следует, таким образом, тождество основания с самим понятием субъекта.
В понятии субстанции заключено все, что может когда-либо с ней произойти. Однако возникает затруднение. Во-первых, уничтожается различие между случайными и необходимыми истинами, а во-вторых, не остается никакого места свободе человека. Лейбниц утверждает, что нужно отличать достоверное от необходимого. Случайное имеет место, ведь Бог предвидит все, но оно не становится от этого необходимым. Лейбниц в «Рассуждениях о метафизике» приводит такой пример. Юлий Цезарь будет верховным главой государства и низвергнет свободу римлян, и это действие заключается в его понятии. Природа Цезаря соответствует его понятию, и тогда как Бог даровал ему определенную личность, Цезарю необходимо ей соответствовать. Дело в том, что событие предполагает уверенность, но не необходимость, несмотря на то, что событие происходит согласно предшествовавшим ему событиям. Диктатура Цезаря, тот факт, что он перешел Рубикон - все это должно было произойти, так как заключается в понятии Цезаря, но нельзя доказать, что это необходимо само по себе. Это происходит случайно, хоть и достоверно. Не так достоверно, как истина геометрическая, но в соответствии со свободным решением Бога делать всегда то, что наиболее совершенно, и чтобы человек всегда свободно делал то, что кажется ему наилучшим.
И человеку кажется, что поступает он наилучшим способом, однако его решения не меняют возможности вещей. Всякая случайность заключает основание быть таковой и доказательство своей истины, но не исключает возможность иного исхода, поэтому и является случайностью.
Итак, Цезарь может не быть верховным главой государства, может не перейти Рубикон -он свободен. Но 2 + 2 всегда равно 4 - здесь свободы нет. Первое утверждение мы вывели согласно принципу достаточного основания, второе - согласно принципу тождества. Истины, которые управляются законом тождества, не могут иметь противоречия, это, по Лейбницу, истины сущности, они непреложны и вечны, в истине сущности не может быть места свободе. Однако есть и второй вид истин - истины существования, управляемые законом достаточного основания, и для них возможно противоречие. Такое противоречие - Цезарь, не являющийся верховным главой государства. Тот факт, что могут существовать два возможных события, являющихся необходимыми, отнюдь не содержит в себе противоречия, потому что, следуя Лейбницу, первое событие является не абсолютно необходимым, а необходимым гипотетически. Следовательно, возможность получает лишь то, что содержит в себе какую-то долю совершенства, и, согласно установлению Бога, осуществляться будет то, что обладает наибольшим совершенством.
Итак, зачем же Лейбницу закон достаточного основания? Принцип достаточного основания позволяет определить сферу существования, позволяет мыслить существующее. Соответствуя принципу предиката в субъекте, мы выводим, что всякая предикация содержится в природе вещи, она имеет основание находиться в природе вещи. По закону достаточного основания Лейбница, все, что говорится о некоторой вещи, - это предикация, относящаяся к этой вещи. О вещи говорит ее сущность, и сущность заключается в понятии вещи - в этом месте закон достаточного основания соответствует закону тождества, однако мы идем дальше и утверждаем, что выходя за пределы закона тождества, по закону основания, мы должны принять, что в понятие вещи заключена не только ее сущность, но и все события, которые с этой вещью происходят или произойдут. Закон достаточного основания взаимообратен закону тождества и, можно сказать, преодолевает закон причинности. Тогда как причинность отсылает следствие к своей причине, закон основания указывает на отношения следствия к причине, где первое обязательно включает в себя последнее. По закону достаточного основания мы имеем не только причину определенной вещи, но и все ее отношения с другими вещами, включающими свои причины и следствия.
Выделив два вида необходимости, Лейбниц подчеркивает, что человек имеет дело только с гипотетической, моральной необходимостью, за его пределами остается необходимость метафизическая или абсолютная. Моральная необходимость - органическая часть субъекта, но все же Лейбниц, отказываясь от понятия свободы воли, подчеркивает, что действия человека, подчиненные только гипотетической необходимости, не являются проявлением исключительно его независимой воли. Несмотря на то, что Бог изначально наделяет мир гармонией, согласно которой все монады могут быть названы запрограммированными субъектами универсума, каждая из них все же развивает самопроизвольную деятельность. Тело человека, с одной стороны, подчинено механическим причинам, действующим в универсуме согласно предустановленной гармонии, а с другой - человеческая деятельность может быть свободна, и этой свободой и целесообразностью деятельности определяется моральный характер субъекта. Конечные причины и бесконечность предустановленной гармонии совпадают только в понятии Бога. Бог свободен, но совершает свои действия согласно определяющим основаниям. Возможность свободы для индивидуального субъекта определяется его способностью приобщиться к сфере наивысшей божественной свободы.
Бог не принуждает нас к определенному выбору, он дарует свободу определять то, что является наилучшим. Возможным становится и выбор противоположного, и абсолютное бездействие, так как сама душа находится в состоянии безразличия. И то, что мы поступаем таким образом, а не иным - зависит от нас, от нашего существа. Мы знаем наш долг, и Лейбниц пишет, что мы не можем знать, предопределено ли нам согрешить по нашей природе или нет, поэтому мы должны поступать сообразно нашему долгу. Причина, что человек решается на грех, в том, что иначе он не был бы этим человеком. В идее Бога заключено свободное действие индивида совершить грех, но то, почему грешник, заключающийся в идее Бога, существует в действительности, мы знать не можем, однако мы должны принять на веру тот факт, что раз грешник существует, значит Бог признал это за благо.
Иммануил Кант излагает свою интерпретацию закона достаточного основания в работе «Новое освещение первых принципов метафизического познания», где выделяет закон достаточного основания как один из ключевых законов логики. Закон достаточного основания Кант формулирует на основе предложенного определения Лейбница, однако критически дополняет его и интерпретирует в некоторых важных моментах.
Кант исключает возможность существования основания в себе самом. Если нечто содержит основание вещи в себе, то оно есть ее причина, однако причина первичнее действия, значит, невозможно, чтобы нечто существовало одновременно и раньше, и позже себя. В учениях многих философов предшествующей Канту традиции мы встречаем положение, утверждающее возможность содержания основания своего существования в самом себе, и примером тому называют Бога. Однако Кант утверждает, что существование Бога предшествует самой его возможности и возможности всех вещей, и поэтому его существование, безусловно, необходимо. Упразднение Бога означает упразднение не только всего существующего, но и внутренней возможности существования вещей. Возможность вытекает из сопоставления, как то, что при соединении понятий не вызывает противоречий. Для любого сопоставления необходимо существование налицо подлежащих сопоставлению вещей, таким образом, из возможности необходимо следует наличие действительного существования того реального, что есть в каждом возможном понятии. В противном же случае существовало бы только невозможное. Получается, что для всей реальности имеется некоторое единственное существо, наличие которого абсолютно необходимо для всякой возможности, и такое существо есть Бог.
Далее мы должны принять различие между основанием истины и основанием существования. Кант пишет, что, если в субъект заключен предикат по определяющему основанию, то значит, что и предикату существования необходимо основание. Для истины достаточно лишь предикатно-субъектное тождество, но не определяющее основание, но если речь идет о вещи, то отсутствие определяющего основания свидетельствует о существовании вещи с безусловной необходимостью, что противоречит случайности. Если говорят, что все, что существует, имеет свое следствие, то таким образом положено рассуждать лишь об основаниях познания, но не существования. Понятием сущего может быть общее либо индивидуальное понятие, и в случае с общим низшие ему понятия находятся в подчинении к высшему, и, следовательно, общее содержит в себе основание для низших. Индивидуальному понятию присущи предикаты, соответствующие ему всегда при наличии идентичных оснований. Говорить же в таком смысле об истине существования мы не можем, потому что «субстанция, если она не находится в связи с другими, не подвергается никаким изменениям» (Кант, 1994: 298).
Бывает, человек совершает выбор, который кажется ему лишенным каких-либо оснований. Это может быть выбор среди двух, казалось бы, одинаковых предметов или игра, предполагающая спрятанный предмет в одной руке. В таком случае мы уверены, что не имеем оснований, возможных предопределить наш выбор, и совершаем его методом угадывания. Мы называем такие решения свободными, ведь не находим предшествующе-определяющего им основания, и мотивы кажутся нам равносильными, однако Кант указывает, что даже в таком случае существуют основания, определяющие нашу душу, и в этом случае сознательные представления становятся смутными. Человеку присуще постоянное стремление к новым восприятиям, которое подталкивает душу менять свое состояние, и с изменением внутренних представлений душа склоняется в определенную сторону.
В своем диссертационном исследовании «О четверояком корне закона достаточного основания» Шопенгауэр выражает закон достаточного основания через формулу Христиана фон
Вольфа, как «наиболее общую»1, однако в моментах обоснования закона можно проследить некоторые отличия от предшествующей традиции. На базе этого закона Шопенгауэр строит свою философскую систему, и в этой работе излагает идеи, которые впоследствии будут развиваться во всех остальных его трудах.
Шопенгауэр утверждает тождество бытия объектов и представлений, которые имеют между собой необходимую связь, указывающую на то, что ничто для себя пребывающее и ничто единичное не может стать для нас объектом. От характера связующих объектов зависит модификация закона достаточного основания, однако за основу берется всеобщий и абстрактный закон, сохраняющий общее для всех своих форм. Общий закон достаточного основания Шопенгауэра относится к априорным знаниям, ведь сама возможность получения опыта и восприятия основана на утверждении, что органы чувств имеют под собой причину, и их реакции на причину не произвольны, а могут быть определены. Закон основания – это содержание всего a priori достоверного познания. Любой объект действительности неизбежно подчиняется другим объектам как определяемый и как определяющий, и тогда существование всех объектов есть отношение их друг к другу. Артур Шопенгауэр утверждает, что в каждой вещи есть нечто такое, чему никогда нельзя найти основания, указать дальнейшую причину, чего нельзя объяснить, и это есть сущность вещи, специфический способ ее действия. Но несмотря на это, мы всегда можем указать причину отдельного действия, в соответствии с которой вещь производит это действие.
Проблему свободы воли Шопенгауэр признает наряду с проблемой реальности внешнего мира, или отношения идеального к реальному, одной из «двух глубочайших и труднейших проблем философии новых времен» (Быховский, 1975: 18). Шопенгауэр попытался обосновать невозможность свободы воли в условиях действия закона достаточного основания, распространенного как на сферу познания, так и на сферу человеческой нравственности. Моральная свобода у Шопенгауэра – это liberum arbitrium , т. е. свобода воли. Человек морально свободный действует исключительно в соответствии со своими желаниями, не руководствуясь при этом ни внешними условиями, ни обещаниями, угрозами, стереотипами, надеждами и т. д. Это есть свобода желания, которую Шопенгауэр определяет вопросом «Хочу ли я того, что хочу?», т. е. хотение субъекта не должно зависеть от какого-то предыдущего желания, повлиявшего на это. Однако тут возникает дилемма, так как за утвердительным ответом на такой вопрос напрашивается следующий: «Могу ли я хотеть того, что я хочу хотеть?». Таким образом, желания уходят в бесконечность в поисках того первого, от которого пошли остальные, того, которое ни от чего не зависело.
Свобода исключает необходимость, она предполагает случайность. Событие может быть необходимым по отношению к своей причине, а всякая случайность всегда относительна, и необходимость по отношению ко всему, помимо своей причины, является случайной. Представляется ли в таком случае свобода абсолютной случайностью? Если свободное действие субъекта не должно зависеть от какого-либо основания, тогда воля не может определяться причиной и законом достаточного основания. Если мы предполагаем обратное, и воля определяется причиной, то следствие становится необходимым, что противоречит понятию свободы.
Сообразная с волей свобода удостоверяется самосознанием, которое отвечает за свободу действия, но не за свободу хотения. Если нам необходимо решить вопрос о зависимости воли от внешних условий, мы выходим за рамки компетенций самосознания, ведь самосознание отвечает за зависимость актов тела от воли. Объекты хотения находятся не в самосознании, а в сознании других вещей. Свобода воли есть действие причины, что само по себе является противоречием, рассудок не может мыслить свободное безразличное решение, так как не имеет таковой формы. Свободное решение в таком случае есть определяемое без определяющего, то, что приводит в действие, причем абсолютно случайно, но само не является приводимым в действие. Причина не может вызывать действие без основания, она не может создать его из ничего, так как есть то, на что она действует, причем то, что изначально уже содержит способность к подобному изменению, т. е. любое действие происходит из внутренней способности к изменению и внешней определяющей причины, принуждающей эту способность к действию. Человек строго подчинен действию закона основания, но в его сознании заложено сознание свободы, так как свободная воля познается непосредственно в себе. Однако человек – это явление воли, а не сама по себе воля, и личность принимает форму явления, т. е. закона основания. Такая позиция философа по отношению к свободе индивида крайне пессимистична, так как человек в ней занимает чрезвычайно слабую позицию – он считает себя свободным, но таковым не является. На этом можно было бы закончить рассуждения, однако Шопенгауэр не так строг к человеку, как может показаться, он предлагает решение из этого вечного круговорота страданий.
В конце своей работы «О свободе воли» Шопенгауэр высказывает «высшую точку зрения», благодаря которой человеку дана возможность постичь истинную моральную свободу. Этот факт сознания двойственен: во-первых, это твердое чувство ответственности за свои поступки, и во-вторых, это вменяемость поступков, осознание того, что только ты являешься их автором. Способность принятия факта совершения действия личностью без нужды оправдывать его какими-либо внешними факторами – это свидетельство свободы. Тогда как отдельные поступки человека наступают со строгой необходимостью, характер его врожден и неизменен. Свобода может быть найдена во всем бытии и существе человека. Тогда как мир опыта подчинен закону operari sequitur esse , свобода содержится в esse . Все это говорит о том, что Шопенгауэр не исключает свободу, а лишь перемещает ее из области поступков в сферу высшую, трансцендентальную. Можно ли сказать, таким образом, что Шопенгауэр решает спор о свободе воли в условиях действия закона основания или нет – еще один важный вопрос. С одной стороны, он решительно отвергает свободу воли, приводя ряд логических аргументов в пользу ее невозможности, с другой – Шопенгауэр не оставляет в стороне моральность субъекта и его способность прийти к свободе воли посредством осознания собственной ответственности и вменяемости поступков. Пассивность человека, его подчиненность воле, отсутствие инициативы к действию – это то, что, по мнению Шопенгауэра, каждый может в себе преодолеть, если направит свой взор не во вне, а внутрь своего существа. Человек может достичь свободы воли. Философия Шопенгауэра не пессимистична по своей сути, она лишь подчёркивает, что пессимист – это «человек без духовных потребностей» (Шопенгауэр, 1992: 479).
В философии от Лейбница до Шопенгауэра закон достаточного основания представлял один из наиболее важных принципов философии, и мыслители пытались сохранить свободу, не отказываясь от закона основания. Распространение закона достаточного основания на всю сферу бытия ставило свободу под сомнение, но и отказаться от него тоже не представлялось возможным. В учении Лейбница закон достаточного основания не теряет своей роли до последних строк его философских трудов, Лейбницу не приходится отказываться от него, чтобы «спасти» свободу субъекта, он лишь последовательно и сообразно с другими принципами своей системы вводит различение видов закона достаточного основания, относящихся к сфере истин сущности и истин существования. Свобода Лейбница, на его взгляд, является совершенно обоснованной и не противоречащей своему определению, однако существует и традиция резкой критики обоснования свободы Лейбницем. Кант предпринял попытку ограничения сферы действия закона достаточного основания, так как осознавал важность спасения свободы и конкретизации области действия закона основания. Вслед за Кантом Шопенгауэр разделяет мир на две противопоставленные сферы, чтобы сохранить свободу, выражаемую им как свобода воли. Шопенгауэр не исключает свободу, а лишь перемещает ее из области поступков в сферу высшую, трансцендентальную. Однако ему тоже приходится отказаться от закона достаточного основания, чтобы спасти свободу.
Конечная точка рассуждения о свободе и сфере применения закона достаточного основания, можно сказать, не найдена и по сей день – ведь за одним обоснованным и неоспоримым утверждением следует новая череда критики и опровержений, и так снова и снова. Однако этот факт лишь подтверждает важность исследования вопроса свободы и закона основания в историко-философской науке, он может способствовать открытию тайн, лежащих за пределами уже исследованных вопросов и глубокому пониманию того, как возможна взаимосвязь этих категорий.
Список литературы О законе достаточного основания: Лейбниц, Кант, Шопенгауэр
- Быховский Б.Э. Шопенгауэр. М.: Мысль, 1975. 206 с.
- Делёз Ж. Лекции о Лейбнице. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 375 c.
- Кант И. Новое освещение первых принципов метафизического познания // Собрание сочинений: в 8 т. М., 1994. Т. 1. 544 с.
- Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах / ред. и сост., авт. вступит. ст. и примеч. В.В. Соколов; перев. Я.М. Боровского и др. М., 1982. Т. 1. 636 с.
- Псху Р.В. Ситуативная герменевтика как историко-философский метод исследования восточных философских текстов: дис.. д-ра филос. наук: 09.00.03. М., 2017. 289 с.
- Шопенгауэр А. О свободе воли // Свобода воли и нравственность. М., 1992. 448 c.
- Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания // О четверояком корне. Мир как воля и представление. Критика Кантовской философии: в 2 т. М., 1993. Т. 1. 672 с.