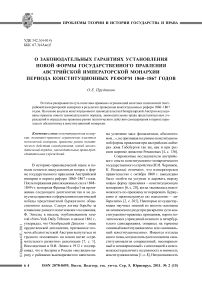О законодательных гарантиях установления новой формы государственного правления Австрийской императорской монархии периода конституционных реформ 1860-1867 годов
Автор: Прудников Олег Евгеньевич
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Актуальные проблемы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 2 (15), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается суть политико-правовых ограничений властных полномочий Австрийской императорской монархии в результате проведения конституционных реформ 1860-1867 годов. На основе анализа конституционного законодательства Императорской Австрии исследованы правила нового законодательного порядка, законодательные права представительных учреждений и определены правовые рамки политического действия самодержавия в период перехода от абсолютизма к конституционной монархии.
Конституционная монархия, политико-правовое ограничение властных полномочий монархии, правовые рамки политического действия самодержавия, новый законодательный порядок, законодательные права представительных учреждений
Короткий адрес: https://sciup.org/14972823
IDR: 14972823 | УДК: 342.3(4-014)
Текст научной статьи О законодательных гарантиях установления новой формы государственного правления Австрийской императорской монархии периода конституционных реформ 1860-1867 годов
В историко-правоведческой науке и поныне остается дискуссионным вопрос о форме государственного правления Австрийской империи в период реформ 1860–1867 годов. После поражения революционных сил в 1848– 1849 гг. монархия Франца Иосифа I на протяжении следующего десятилетия так и не допустила правового оформления политической победы представителей буржуазного общественного класса. Следуя логике борьбы за изменение данного политического положения, Ф. Энгельс в письме, опубликованном газетой «New-York Daily Tribune» в начале 1861 г., утверждал, что Октябрьский Диплом – лишь орудие венской дипломатии, призванное «помочь абсолютистской Австрии выпутаться из трудного положения» на новом витке «стремительного развития» революции [7, с. 1]. Впоследствии и В.И. Ленин в 1912 г. подчеркивал, что в Австрии и России «мы видим наряду с районами высокоразвитого капитализ- ма угнетение масс феодализмом, абсолютизмом...», не признавая подлинно-конституционной формы правления при австрийских кайзерах дома Габсбургов так же, как и при русском царизме династии Романовых [4, с. 136].
Современные исследователи австрийского опыта конституционно-монархического государственного устройства (И.И. Черников, К. Воцелка) отмечают, что императорское правительство с октября 1860 г. вынуждено было «пойти на уступки и даровать народу новую форму правления – конституционную монархию» [6, с. 20], когда «выявилась невозможность по-прежнему игнорировать буржуазию и проповедуемую ею идеологию – либерализм» [2, с. 265]. Некоторые из существующих научных мнений во многом основаны на ленинском подходе при раскрытии сути конституционно-правовых принципов, норм и политических учреждений венского и петербургского самодержавия, опираясь на термины «мнимый конституционализм» или «номинальный конституционализм». Имеются взгляды иного толка, когда используются понятия «конституционализм совершенный, несовершенный и незавершенный» с апелляцией к невозможности различить подлинность и мнимость конституционализма [1, с. 8]. Неоднозначность подобных характеристик, связанных с попыткой определения формы правления австрийского государства в 1860–1867 гг., требует дальнейшего внимания к названной теме и подтверждает актуальность ее дискуссии среди историков и правоведов.
Рассмотрим конкретные эпизоды государственно-правовой истории Австрии, которые вошли в исторические рамки периода формирования основ конституционного законодательства 1860–1867 гг. и решительно повлияли на качественное, эволюционное изменение формы правления. Императорский Диплом № 226 от 20.10 1860 г., объявивший об упразднении абсолютной власти правительства, содержал перечисление основополагающих политических свобод личности. Эти свободы обеспечивали статус гражданского состояния в конституционном государстве. «Долг Нашего правления, – говорилось в преамбуле, – охраняя державную мощь и безопасность Австрийской монархии, в интересах Нашего Дома и Наших подданных, ясно и недвусмысленно обязывает наделить граждан несомненными правами... Только такие институты и гражданские права, которые исторически памятны сословиям при существующем различии Наших королевств и земель и соразмерно отвечают требованиям нераздельного, крепкого союза, могут гарантировать в достаточной степени гражданское состояние». Указывалось, что отныне «единодушное взаимодействие» монархии и подданных «основано на равенстве... перед законом, свободе религиозного вероисповедания и отправления культа, равенстве прав на государственную службу независимо от сословия и происхождения, на всеобщих и равных военной и налоговой обязанностях, на отсутствии барщинного труда и отмене внутренних пошлин» [11, S. 336–337].
Самым значительным конституционным нововведением стало признание законодательных прав представительных учреждений на провинциальном и общегосударственном уровнях. Первый же из четырех пунктов Диплома определил, что право на издание законодательных актов с формальным определением закона (die Gesetze) Кайзер может реализовывать «только при сотрудничестве» с отдельными ландтагами (в земельном законодательстве) или рейхсратом (в имперском законодательстве) [11, S. 337]. Та- кое «сотрудничество» стало «политическим основным правом» представителей населения, по замечанию юристов-современников Франца Иосифа I [14, S. 359], и было обеспечено самой сутью неотменяемого конституционного закона. Не прекращавший прямого действия в течение 58 лет (октябрь 1860 – октябрь 1918 гг.), Октябрьский Диплом установил определенные правовые рамки политического действия императорского самодержавия, и санкционированное соблюдение этих рамок привело к существенному политико-правовому ограничению властных полномочий монархии, которое распространилось на основные сферы австрийской верховной власти: законодательную, судебную, исполнительную.
Согласно Диплому № 226 (ст. II) имперские законы (die Reichsgesetze) монархия обязалась санкционировать только при согласии рейхсрата. Речь идет о таких имперских актах, как законы о денежной эмиссии, государственном бюджете и кредитах, госпошлинах и торговле, банковском, почтово-телеграфном деле и железных дорогах, о способе и порядке ведения дел, связанных с отбыванием всеобщей воинской повинности, о введении новых налогов, их повышении, а также об отклонении государственных займов, конверсии внутреннего и внешнего долга, отчуждении, обмене или обременении недвижимого госимуще-ства [11, S. 337].
Земельные законы (die Landesgesetze), начиная с 20.10 1860 г., также не могли приниматься без участия отдельных ландтагов. Среди них значились законы об особом положении дел в коронных землях, об «общеполезных учреждениях», о постановлениях и мероприятиях по развитию местного предпринимательства и экономики, о прямом кредитовании провинциальной торговли, промышленности и о регулировании торговых сношений, о лекарственных заготовках и контроле за их применением на местах, о надзоре за делопроизводством в общинах и сбором установленных статистических данных, о земельных финансовых фондах и местных служащих, как гласили конституционные статуты коронных земель Императорской Австрии (например, п. a), b), c), d), e) § 16 статута княжеского графства Тироль) [12, S. 418].
Новые права представительных органов на участие в законодательной работе государства были подтверждены Дипломом о Февральской конституции 26.02 1861 г. в § 10 Основного закона об имперском представительстве (Прил. I к Диплому № 20) – для рейхсрата [10, S. 73] и Основными законами коронных земель (Прил. II к Диплому № 20, например § 18 земельного устава Нижней Австрии) – для соответствующих ландтагов [13, S. 77]. Суть нового законодательного порядка выражалась в неотъемлемых обязательствах верховной власти оформлять все нормы государственного права с формальным определением закона только при согласии палат представительных органов. Остальные законодательные акты, издаваемые монархией непосредственно, отныне должны были составлять отдельный свод источников права (Patent, Diplom, Verordnung, Verfügung, Landesordnung), не имеющий прямого отношения к собственно австрийским законам. О значении этих отделенных от формального определения закона актов верховного управления мы будем говорить отдельно.
Основные законы империи (№ 141–146), принятые 21.12 1867 г., еще больше расширили тот свод юридических формальностей и условных правил, который в целом стал характерным для ограничения рамок политического действия верховной власти при конституционно-монархическом правлении. Большинство из них (№ 141, 143, 144, 145) содержали некоторые параграфы и статьи, в немалой степени допускавшие проявление элементов парламентского дуализма и парламентаризма. Так, четкие границы для законодательной деятельности монархии окончательно установили Закон № 141 «Об имперском представительстве» и Государственный основной закон № 145 «О правительственной и исполнительной власти». Согласно п. а) § 11 в Законе № 141 и ст. 6 в Государственном основном законе № 145, ведению рейхсрата подлежало рассмотрение и утверждение международных торговых и тех государственных договоров, «которые обременяют Империю или часть ее, или налагают обязательства на отдельных граждан, или ведут к изменению территории представленных в Рейхсрате королевств и земель» (цит. по: [5, с. 552–553]).
Известный § 14 в Законе № 141, призванный регулировать применение чрезвычайноуказных законодательных мер монархии, включал перечень обязательных к тому требований: 1) указы Кайзера по введению в действие общегосударственных законодательных положений без согласования с рейхсратом требуют солидарного решения и общей ответственности министерского кабинета; 2) обнародование подобных указов требует определенной ссылки на данный конституционный закон; 3) чрезвычайные законодательные указы Кайзера не могут вести к изменению Государственных основных законов; 4) эти указы не могут долговременно обременять государственную казну; 5) временная сила чрезвычайных указов теряется, если в течение первого месяца по следующем созыве хотя бы одна из палат парламента не одобрит их опубликованной редакции [8, S. 392–393]. Одним из наиболее важных условий, поставленных самодержавию, стало содержание § 15 в Законе № 141. Там отмечено, что изменение всех основных законов № 141–146 от 21.12 1867 г. может быть постановлено только при участии парламента, «по крайней мере, двумя третями голосов присутствующих членов» [8, S. 393].
В судебной сфере конституционные законы от 21.12 1867 г. следующим образом ограничили властные полномочия монархии: 1) Государственный основной закон № 143 «О введении имперского суда» (ст. 4) утверждал положение о том, что «подлежит ли известное дело рассмотрению имперского суда, решает исключительно сам имперский суд», а его решения безапелляционны; 2) тот же закон (ст. 5) обязывал Кайзера назначать всех членов этого суда, заседавшего в Вене, пожизненно [5, с. 569]; 3) положения Государственного основного закона № 144 «О судебной власти» (ст. 5–6) гласили, что «судьи назначаются Императором или от его имени окончательно и пожизненно», и судьи «самостоятельны и независимы в выполнении своих судейских обязанностей», причем они «могут быть смещаемы только в случаях, указанных законом», но не монархом, а перемещение или увольнение в отставку «может быть сделано по определению суда в указанных законом случаях и форма х » [5, с. 571]; 4) тот же закон
(ст. 8) определял: «Все судебные должностные лица клянутся в своей служебной присяге блюсти ненарушимо основные государственные законы» [5, с. 571–572]; 5) в данном законе (ст. 14) фиксировалось обязательное отделение судебной власти от власти исполнительной «во всех инстанциях» [там же, с. 573]; 6) по смыслу ст. 13 Государственного основного закона № 144 Император Австрийский, продолжая обладать самодержавным правом дарования амнистии, отмены или смягчения наказаний, уничтожения ограничений гражданских прав, на протяжении 1867–1918 гг. был ограничен и в применении своего традиционного права аболиции. Данные ограничения действовали относительно членов правительства и закреплялись Законом № 101 «Об ответственности министров» от 25.07 1867 г., получившим конституционный статус в силу ст. 13 Государственного основного закона № 144. Судебные прерогативы кайзера перечисляются здесь «с оговоркой, содержащейся в Законе об ответственности министров» [17, S. 399].
Необходимо отметить, что если перечисленные положения основного законодательства можно считать элементами парламентско-дуалистической системы, то указанное правило конституционного акта № 144 (ст. 13) обнаруживает элемент, свойственный парламентарному типу ограниченной монархии. «Оговорка», или указание, продиктованное упомянутым законом, отличалось очевидной жесткостью, которая существенно увеличивала политический авторитет и полномочия рейхсрата. Конституционное право обвинения министра давалось каждой из двух палат. Президент той палаты, куда подавалось официальное заявление о составе преступления, совершенного конкретным лицом, обязывался в течение 8 дней включить обсуждение поданного заявления в повестку дня. Именно палата решает судьбу заявления либо посредством работы созданной комиссии (решением пленума), либо на общем заседании.
Решение о допустимости министерского судебного процесса должно приниматься только квалифицированным большинством трех четвертей всех голосов. Прямым следствием положительного решения о процессе является отставка обвиненного министра, в то время как документ об обвинительном ре- шении незамедлительно передается президентом палаты в приемную формируемой парламентом государственной судебной палаты. При этом обвинения могли быть предъявлены и бывшим министрам. Согласно § 6 конституционной части Закона «Об ответственности министров» государственная судебная палата включала 3 университетских профессора, 8 адвокатов, 7 председателей коронного суда и еще 5 свободных вакансий. Текст закона (§ 29) гласил: «Кайзер пользуется своим правом помилования относительно признанного виновным министра только на основании поданного ходатайства палаты рейхсрата, от которой исходило обвинение» [14, S. 371–372]. Монарх, таким образом, лишался права приостановления судебно-процессуальных действий и права помилования относительно обвиняемых лиц из состава своего правительства без решения палат парламента – имперского совета. Правда, действие описанной нами части основных законов об аболиции не распространялось на остальных подданных, и многие кайзеровские прерогативы в области судебной власти сохранялись. Однако изменение неограниченного статуса автократии все же реально произошло.
В сфере исполнительной власти принцип законности, не укрепившись еще окончательно, особенно четко проявился в 1867 г., после того как с 1860 г. были установлены правила нового законодательного порядка. Государственный основной закон № 145 от 21.12 1867 г. «О правительственной и исполнительной власти» (ст. 2) обеспечил исполнение порядка, при котором монарх осуществляет свою правительственную (Regierungsgewalt) и исполнительную (Vollzugsgewalt) власть через министров и подчиненных ему непосредственно (ст. 3) чиновников и должностных лиц административных ведомств [16, S. 400]. Тот же закон (ст. 9) подтвердил наличие конституционной ответственности министров со ссылкой на соответствующий Закон № 101 от 25.07 1867 г., упомянутый нами выше: «Министры ответственны за законность и конституционность правительственных актов... Ответственность эта, состав суда, рассматривающего обвинения против министров, и порядок судопроизводства в нем определяются особым законом» (цит. по: [5, с. 575]). В данном
Законе № 101 (§ 1), санкционированном за 5 месяцев до принятия Декабрьской конституции, указывалось, что каждое государственное действие Кайзера нуждается в контрассигнации [14, S. 364].
Визирование, или «министерская скрепа», уже не могло рассматриваться как традиционная формальность. Юридическая самостоятельность вместе с конституционной ответственностью министров теперь подтверждались законодательно (ст. 9–10 в Государственном основном законе № 145). Самостоятельность и ответственность гарантировались и в процессе персональной работы, и в составе министерского совета при необходимости принятия солидарных решений кабинета. Закон «Об ответственности министров» давал возможность не просто исполнять кайзеровские намерения, но и действовать, руководствуясь политическими принципами. В случае несогласия с точкой зрения Императора или большинства в коронном либо министерском совете министр, будучи конституционным органом правления, мог подавать в отставку, которую ни в коем случае нельзя было трактовать как дисциплинарную меру. Подобные меры исключал закон № 101 от 25.07 1867 г. [ibid., S. 365]. Причем ровно через год после его принятия специальный закон установил каждому уволенному министру, независимо от длительности его ведомственной деятельности, министерскую пенсию в 8 000 крон не в ущерб его соответствующих более высоких притязаний на итоговый пенсион после окончательной отставки со службы [ibid.].
Перечисленные законодательные правила были призваны содействовать максимальной независимости министров, что, несомненно, выгодно отличало новое положение высших чиновников государства от той политической роли, которую отводила министрам система абсолютизма. По окончании периода преобразований 1860-х гг. любой из гражданских кабинетов Императорской Австрии (die Bürger-Ministerien des österreichischen Kaisertums) состоял из министров, считавшихся юридически ответственными если не перед парламентом, то во всяком случае перед конституцией.
Выстроенную таким образом систему ответственного управления утвердил исполни- тельный Закон № 66 от 05.05 1869 г. на основании Государственного основного закона № 142 от 21.12 1867 г. «Об общих правах граждан» (ст. 20). Статья 20 говорила «о допустимости временного и местного приостановления прав, содержащихся в ст. 8, 9, 10, 12 и 13, ответственной правительственной властью». Подобное «допущение» должно впредь определяться особым законом [15, S. 396]. Закон № 66 так и назывался – «О полномочиях ответственного управления по применению временных и местных исключительных правил, определенных существующими законами». Его § 1, следуя смыслу § 14 Конституционного Закона № 141 о введении чрезвычайных и временных законодательных мер на всей имперской территории, также требовал консолидированного решения правительства для введения в действие «временных и местных исключительных правил» в различных коронных землях [9, S. 303]. На эти обстоятельства ссылался в начале XX в. русский правовед Н.А. Захаров, отмечая явное наличие формальных условий по отношению к австрийскому монарху [3, с. 269].
Следует отметить, что политическая гибкость Франца Иосифа I позволила правящим кругам в октябре 1860 г. формально признать основы современной для них прогрессивной теории власти, а также «парламентскую систему» работы правительства. Такая система предполагала наличие официальной программы или развитие точного политического направления под руководством министра-президента. Она демонстрировала не только единство действий кабинета, но и проявление высшей государственной воли к принятию конституционного правления.
Создание «Государственного министерства», объявленное Октябрьским Дипломом, и возникновение традиции опубликования прокламаций каждого вновь назначенного главы правительства стали характерными знаками всей «эры конституционных экспериментов».
Общий вывод представляется нам однозначным: конституционные реформы 1860– 1867 гг. завершились тем, что законодательным путем впервые были реально установлены определенные границы властным полномочиям Австрийских императоров. Реальное политико-правовое ограничение кайзеровского самодержавия изначально было оформле- но именно в этом историческом периоде, когда результатом изменения формы правления стала окончательная замена абсолютизма конституционной монархией.
Список литературы О законодательных гарантиях установления новой формы государственного правления Австрийской императорской монархии периода конституционных реформ 1860-1867 годов
- Виноградов, В. В. Исследование понятия «конституционализм» и его типологии неюридическими науками/В. В. Виноградов//Вестник Волгогр. гос. ун-та. -2009. -№ 11. -С. 4-10.
- Воцелка, К. История Австрии. Культура, общество, политика/К. Воцелка; пер. с нем. В. А. Брун-Цеховского, О. И. Величко, В. Н. Ковалева. -М.: Весь Мир, 2007. -512 с.
- Захаров, Н. А. Система русской государственной власти/Н. А. Захаров. -М.: Изд-во журн. «Москва», 2002. -390 с.
- Ленин, В. И. Ко всем гражданам России//Полн. собр. соч. Т. 22/В. И. Ленин. -5-е изд. -М.: Изд-во полит. лит., 1973. -597 с.
- Лоуэлль, А. Л. Правительства и политические партии в государствах Западной Европы (Франция, Италия, Германия, Австро-Венгрия, Швейцария)/А. Л. Лоуэлль; пер. с англ. О. Полторацкой; под ред. Ф. Смирнова. -М.: Изд. С. Скирмунта, 1905. -644 с.
- Черников, И. И. Гибель империи/И. И. Черников. -М.; СПб.: TERRA FANTASTIKA, 2002. -637 с.
- Энгельс, Ф. Австрия -развитие революции/Ф. Энгельс. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.lugovoy-k.narod.ru/marx/15/039.htm (дата обращения: 16.06.2011). -С. 1-3. -Загл. с экрана.
- Gesetz vom 21. December 1867//R.G.B. Jahrgang. -1867. -LXI Stück, № 141. -S. 389-394.
- Gesetz vom 5. Mai 1869//R.G.B. Jahrgang. -1869. -XXXI Stück, № 66. -S. 303-306.
- Grundgesetz über die Reichsvertretung//R.G.B. Jahrgang. -1861. -IX Stück. -Beil. I zu Nr. 20. -S. 72-74.
- Kaiserliches Diplom vom 20. October 1860//R.G.B. Jahrgang. -1860. -LIV Stück, № 226. -S. 336-338.
- Kaiserliches Patent vom 20. October 1860//R.G.B. Jahrgang. -1860. -LV Stück, № 254. -S. 415-428.
- Landes-Ordnung und Landtags-Wahlordnung für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns//R.G.B. Jahrgang. -1861. -IX Stück. -Beil. II zu Nr. 20 a). -S. 75-90.
- Oesterreichische Bürgerkunde. -Wien: Wien XX: Verlag der Patriotischen Volkbuchhandlung, 1909. -I Bd. -702 S.
- Staatsgrundgesetz über allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. December 1867//R.G.B. Jahrgang. -1867. -LXI Stück, № 142. -S. 394-396.
- Staatsgrundgesetz über die Ausübung der Regierungs-und der Vollzugsgewalt vom 21. December 1867//R.G.B. Jahrgang. -1867. -LXI Stück, № 145. -S. 400-401.
- Staatsgrundgesetz über die richtliche Gewalt vom 21. December 1867//R.G.B. Jahrgang. -1867. -LXI Stück, № 144. -S. 398-400.