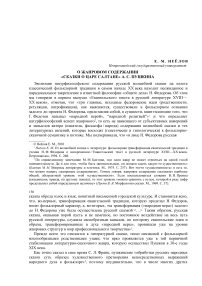О жанровом содержании «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина
Автор: Нелов Е.М.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.6, 2001 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются сходства жанрового содержания фольклорной волшебной сказки и пушкинской сказки, анализируется близость этого содержания философии Н. Ф. Фёдорова.
Жанровое содержание, сказка, философия н. ф. фёдорова
Короткий адрес: https://sciup.org/14749139
IDR: 14749139
Текст научной статьи О жанровом содержании «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина
Эволюция натурфилософского содержания русской волшебной сказки на излете классической фольклорной традиции в самом начале XX века находит неожиданное и парадоксальное закрепление в известной философии «общего дела» Н. Федорова. Об этом мы говорили в первом выпуске «Евангельского текста в русской литературе XVIII— XX веков», отмечая, что «три главные, исходные федоровские идеи (родственности регуляции, патрофикации), как выясняется, существовали в фольклорном сознании задолго до проекта Н. Федорова, представляя собой, в сущности, квинтэссенцию того, что Г. Федотов называл «народной верой», “народной религией”»1 и что определяет натурфилософский аспект жанрового2, то есть не зависящего от субъективных намерений и замыслов автора (писателя, философа / народа) содержания волшебной сказки и тех литературных явлений, которые восходят (генетически и типологически) к фольклорносказочной семантике и поэтике. Мы подчеркивали, что «в лице Н. Федорова русская ________
«непосредственных выражений народного духа» сказочно-федоровская (народноевангельская) традиция определяет жанровое содержание не только фольклорных, но и пушкинских сказок. Причем в сказках Пушкина жанровое содержание, как правило, в большей или меньшей степени выходит и на уровень непосредственного содержания.
Особенно заметно это в самой счастливой сказке Пушкина — в «Сказке о царе Салтане», где жанровое содержание во многом обуславливает и непосредственную художественную семантику текста, ибо речь идет о создании, разрушении и новом создании (воссоздании, воскрешении) родственности и в конкретно-бытовом, и в универсально-философском смыслах этого слова.
Однако, прежде чем говорить об этом уровне семантики текста, надо заметить, что в этой пушкинской сказке, как и в других, вообще происходит удивительная встреча двух традиций, противоположных (и даже враждебных) друг другу в рамках своих аксиологических систем. Первая традиция — ________
-
3 Неёлов Е. М . От волшебной сказки к литературе… С. 270, 273.
-
4 Франк С . Пушкин об отношениях между Россией и Европой // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 457.
151 фольклорная (языческая). «В «Сказке о царе Салтане» как бы наложены друг на друга два сказочных сюжета, в фольклоре бытующих порознь: один — о невинно гонимой жене с младенцем, другой — о вещей деве, способствующей победе своего суженого»5, причем «вся основная часть “Сказки о царе Салтане” представляет собой своеобразную разработанную поэтом сказку о вещей деве — царевне Лебеди»6. Вторая традиция — христианская, о чем свидетельствуют различные приметы христианского мироустройства рассыпанные по всему тексту. Однако если вспомнить, что писал Е. Н. Трубецкой о народной сказке, то можно прийти к выводу, что у Пушкина тоже «христианство выражается не в отдельных чертах и подробностях, а во всем жизнечувствии сказки»7. Причем, если в фольклоре, по словам Е. Н. Трубецкого, можно говорить о «бессознательном проникновении христианских мыслей и особенно чувств в сказку»8, то в пушкинском сказочном мире это проникновение связано с проявлением авторской позиции, которая совпадает в данном случае с позицией лирического героя9.
Вот пример. Желая спастись из заточения, будущий князь Гвидон «торопит волну» прося ее о помощи, то есть обращается, как и полагается в фольклорной сказке, к природным стихиям мира. И они помогают ему:
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько…
Однако далее в это безусловно языческое действие, в результате которого
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она,
-
9 Ср.: у Пушкина «автор — лирический герой сказок (пусть в разной мере) <…>, можно объяснить этот факт тем, что сказки были для Пушкина личной потребностью. Он вкладывал в них что-то очень дорогое и может быть, тайное» ( Непомнящий В . Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. М. 1987. С. 203).
вмешиваются иные силы. Мы слышим голос повествователя, и в нем чувствуется волнение лирического героя, спрятанное в риторике вопроса:
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
И все встает на свои места: волна спасает мать и сына, сын вышибает дно у бочки и выходит на свободу, и все это произошло потому, что Бог не покинул и не покинет наших героев.
Одна из художественных тайн пушкинского сказочного мира как раз и заключается в этом удивительно гармоничном соединении на первый взгляд несоединимого — фольклорно-языческого и христианского, без которого, по глубокому замечанию Т. Г. Мальчуковой, вообще невозможна христианская культура10 (здесь можно было бы добавить — и светская тоже). ________
Сцена, которой открывается «Сказка о царе Салтане», может быть прочитана с разных точек зрения, она многозначна. И. П. Лупанова отмечает, что «под пером Пушкина волшебная сказка приобретает черты, свойственные остросоциальным бытовым сказкам» и это смещение граней жанров рождает «характернейшую черту пушкинских сказочных произведений: легкую иронию, не только приданную как личное качество тому или иному герою, но пронизывающую всю сказку в целом»11. Поэтому естественно и привычно воспринимать разговор трех девиц, открывающий сказку, именно на иронически-бытовом (социально-сатирическом) уровне (конечно, в тех рамках бытовизма, какие допускает жанр сказки). Тогда перед нами — сцена «из сельской жизни», связанная с обрядовым фольклором, или вообще привычная картина вечерней беседы «ни о чем», и тогда царь стоящий «позадь забора» и подслушивающий разговор девушек, оказывается «плохим царем»12, а в иронии Пушкина по поводу подслушивания можно усмотреть даже при желании «нечто автобиографическое»13. Такие и подобные им трактовки, акцентирующие внимание читателей на «бытовом», а не на «сказочном», конечно же, правомерны, но все-таки более адекватно законам жанра, как думается, собственно сказочное прочтение.
Стоит задуматься: случайно ли царь оказался под окном девичьей светлицы, да еще поздно вечером? Разве цари так поступают? Можно ответить — да, в сказках с царями это ________ фольклорных вариантах сюжета о вещей деве или чудесной жене, например, в знаменитой
-
14 Даже тогда, когда правитель, как в харуновском цикле «Тысячи и одной ночи», переодетым гуляет по городу для развлечения, спасаясь от бессонницы, все равно «его функция — все уладить в финале», помочь тем, чьи разговоры он подслушал ночью, «вообще сделать всех счастливыми» ( Герхардт М . Искусство повествования. Литературное исследование «1001 ночи». М., 1984. С. 381).
-
15 Житие Сергия Радонежского // Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века. М. 1981. С. 338.
-
16 См. об этом нашу статью «Сказка и житие» в данном сборнике.
155 «Царевне-лягушке», где отсутствие жен у царских сыновей не только служит завязкой, а потом «двигателем» всего сюжета, но и переживается как эсхатологическое событие. В сказке Пушкина об этой катастрофе знают и жители царства, не случайно ведь сестры в светелке мечтают стать царскими женами.
Почему же отсутствие жены в сказке катастрофично? Вспомним, что говорят сестры в начале действия:
«Кабы я была царица, —
Говорит одна девица, — То на весь крещеный мир Приготовила б я пир». «Кабы я была царица, — Говорит ее сестрица, — То на весь бы мир одна Наткала я полотна».
Зачем, спрашивается, предлагать «всему крещеному миру» еду и одежду, если все сыты и одеты и с рождения купаются в изобилии? Следовательно, в мире голодно и холодно, и лишь брак царя с чудесной девой по законам сказочной поэтики способен спасти его. «Недостача», которую претерпевает царь, оказывается, распространяется и на все царство.
Но, обратите внимание, то, что предлагают (и, надо понимать, могут сделать) первые две сестры, относится к области сугубо материальной, к миру только лишь земных ценностей, добычей и увеличением которых и движется, по мысли Н. Федорова общественный прогресс. Цивилизацию, основанную на признании материальных благ высшей ценностью общества, Н. Федоров в полном соответствии с евангельскими заветами отрицал полностью. Но именно такой — «прогрессивный» — рецепт спасения и предлагается сестрами. Это — псевдоспасение. В самом деле, пир когда-нибудь закончится, всё съедят, полотно износится, и Царь-Голод вновь станет править миром, а если и не съедят, и не износят всё, то что же делать людям в таком мире, где имеется лишь еда и полотно, — есть еще больше и носить еще больше одежд? Отсутствие еды и одежды — первая смерть для мира, но одно лишь их изобилие — тоже смерть (вторая).
И вот раздается голос еще одной (по сказочному канону младшей) сестры:
«Кабы я была царица, —
Третья молвила сестрица, — Я б для батюшки-царя Родила богатыря».
Вот оно, главное, что может спасти сказочный мир — Семья (а не просто брак): отец мать и сын. Будущего князя Гвидона не случайно на протяжении всей сказки величают «сыном», а позднее Царевна-Лебедь скажет:
«Ты, царевич, мой спаситель…»
Кого называют Спасителем?
Рождение Сына, знаменуя собой возникновение Семьи, означает привнесение в дисгармоничный и несчастный мир родственности , обеспечивающей настоящее его спасение — и земное, материальное17, и духовное.
Так возникает образ мира как большой Семьи. Этот образ, позднее появляющийся на страницах «Философии общего дела» Н. Федорова, определяет собой все жанровое содержание русской фольклорной (волшебной) сказки, и он подспудно уже присутствует в завязке действия «Сказки о царе Салтане». Подспудно — потому что неродственность сделавшая мир голодным, холодным и бездуховным, не сдает своих позиций легко и просто: семья, едва возникнув, вновь разрушается.
Старшие сестры, обманув царя, обрекают младшую сестру и ее младенца на смерть:
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили, Засмолили, покатили И пустили в Окиян…
В сказочно-федоровской традиции причина неродственности — смерть и приводит неродственность опять же к смерти.
Необходимо обратить внимание на изменение поведения (и всего облика) старших сестер. В первой сцене, когда они мечтали стать царицами, они — скажем «по-детски» — были «хорошими», заботились не только о себе, но и обо всем мире. Почему же они стали потом, после царской свадьбы (и создания Семьи) «злыми»?
Причина у Пушкина названа — зависть, которая уничтожила родственные чувства. И появление этой зависти тоже понятно. Мы уже видели, что сестры могут предложить царю и его царству лишь материальные ценности, они связаны с тем, что Н. Федоров иронично называл «прогрессом». ________ смерти. В самом деле, три раза князь Гвидон (и мы вместе с ним)
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце
С грустной думой на лице.
Не правда ли, перед нами уже не человек, а скорее сияющая «златом» (ведь это первое что бросается в глаза) мумия, причем постепенно усыхающая. Это проницательно заметил В. Непомнящий, обратив внимание на то, что в четвертый раз
«…во дворце
Царь сидит в своем венце.
И все. Никакой «думы», никакого «лица», никакого имени, остался только «венец». Портрет «усох». В чем же дело?»20. В. Непомнящий объясняет это «правдоподобием чувствований»: в четвертый раз, в отличие от предыдущих, на Салтана смотрят чужие корабельщики, а не родной сын. На уровне же жанрового содержания в «усыхании» портрета царя обнаруживается полная победа смерти.
Итак, неродственность = смерть торжествует в мире человека. Но и в мире природы тоже, как говорится в сказке, «дело лихо»:
Бьется лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней.
-
18 Медриш Д. Н . Путешествие в Лукоморье. С. 33.
-
19 Непомнящий В . Поэзия и судьба. С. 201
-
20 Там же.
И все надо начинать сначала. Ведь «Окиян», в который бросили бочку с царицей и сыном, означает не только смерть невинных жертв, но и возможность ее преодоления (воскрешения). Недаром Пушкин подчеркивает жизнеспособность своих героев:
И растет ребенок там Не по дням, а по часам.
Возвращение в «Окиян» — это (через смерть) возвращение к первичным истокам бытия. «Здесь, — как отмечает В. Непомнящий, — своя вселенная: “В синем небе звезды блещут, В синем море волны хлещут, Туча по небу идет, Бочка по морю плывет…” — наивное, грандиозное мироздание, простое, словно сразу после сотворения, словно недавно, только что, — как говорит Книга Бытия, — земля “была безвидна и пуста, и тьма под бездною, и Дух Божий носился над водою…”»21. Эта библейская символика вполне корреспондирует в пушкинской сказке с символикой фольклорной:
Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом, Дуб зеленый над холмом .
Море-окиян, остров, дуб — это устойчивая и постоянная модель мира в русской фольклорной волшебной сказке22.
-
22 В фольклорной сказке Океан, как правило, представляет собой образ неосвоенного человеком Мира, а Остров — освоенную его часть. У Пушкина вначале, до появления Гвидона, вследствие поразившей мир природы (как и мир человека) неродственности, Остров оказывается тоже неосвоенной, нечеловеческой частью Океана. Купцы вспоминают:
В море остров был крутой, Не привальный, не жилой ; Он лежал пустой равниной; Рос на нем дубок единый…
Отмеченные нами эпитеты еще раз убеждают в том, что в начале сказки Пушкина неродственность опустошает и человеческий, и природный миры, отдавая их во власть смерти. Существенно подчеркнуть что семантическая конструкция ’океан — остров — корабль’ (у Пушкина — это бочка) входит в состав жанрового содержания фольклорной волшебной сказки. Не случайно она постоянно воспроизводится и играет исключительно важную роль во всех литературных жанрах, генетически и типологически восходящих к поэтике волшебной сказки, вплоть до научной фантастики. Ср.: «Остров в далеком океане — это парадигма эстетически значимой цели научно-фантастического путешествия» ( Suvin D . Zur Poetik des lierarischen Genres Science Fiction // Science Fiction. Theorie und Geschichte. MЯnchen, 1972. S. 27).
159 Пушкин, как мы уже говорили, органично соединяет в целостном образе природного мира христианское и фольклорно-сказочное (языческое) его восприятия. Дело спасения родственности, таким образом, перемещается в мир природы, оно требует, если воспользоваться федоровским термином, ее «регуляции», то есть гармонизации освобождения от власти смерти.
Бочка-могила , какой она была в начале действия, по мере его развития, когда волны выносят ее на берег острова, становится бочкой-ковчегом .
Общее дело воскрешения, перемещаясь (после высадки царицы и сына на остров) в мир природы, начинается спасением Царевны-Лебедь. Ее образ, по заключению Р. М. Волкова восходит «к образу мудрой, вещей девы, любимому женскому образу русской волшебной сказки (Царевна-лягушка, Василиса Премудрая)»23. Исследователь, думается проницательно и не случайно упомянул здесь Царевну-лягушку, ибо пушкинская героиня как и Царевна-лягушка, представляет собой не просто общий сказочный тип мудрой девы но и является прежде всего хозяйкой природного мира. Царевна-Лебедь, одинаково свободно чувствующая себя и в «синем небе», и в «синем море», объединяет эти две главные стихии сказочного космоса Пушкина, символически представляя, как и Царевна-лягушка, доброе, несущее людям Жизнь начало природы.
Сцена спасения Царевны-Лебедь прямо отсылает к сказке «Царевна-лягушка»: в равной степени используется любовная и брачная символика лука и стрелы; полет стрелы-судьбы с неизбежностью соединяет человека (в будущем союзе, спасающем мир) с чудесным существом природного мира, символизирующем Жизнь, причем соединяет в момент его борьбы с силами, олицетворяющими другую сторону природы — Смерть (коршун у Пушкина, Кощей Бессмертный в фольклорной сказке)24. Однако в эту фольклорную натурфилософскую сказочную символику Пушкин вводит новый и существенный компонент. Вспомним:
Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук И в тугой сгибает лук, Cо креста снурок шелковый Натянул на лук дубовый…
Сын натягивает на лук, сделанный из дуба, священного дерева славянской мифологии «снурок», снятый с креста, и тем самым фольклорная символика вновь органически соединяется с христианской, подобно тому, как органически соединяется символика «Царевны-лягушки» с агиографической символикой в знаменитой «Повести о Петре и Февронии», воспроизводящей ту же архетипическую схему, что и пушкинская сказка, — брак с волшебной (святой) девой, возвращающий в мир родственность. Примечательно что в кульминационный момент действия фольклорной сказки, на пиру у царя, где Царевна-лягушка появляется в облике Василисы Премудрой, она, по тонкому замечанию Е. И. Марковой, «фактически становится Царевной-лебедью: взмахнула рукой, как крылом, — и из косточек, спрятанных в рукавах, восстал мир Божий, из питьевых капель — озеро с плавающими по нему белыми лебедями»25. Нам уже приходилось писать, что чудо, которое совершает на царском пиру Царевна-лягушка, при всей его волшебно-сказочной традиционности, во-первых, носит христианский характер (в той транскрипции евангельской традиции, которую осуществил Н. Федоров) и, во-вторых соотносится с соответствующими сценами «Повести о Петре и Февронии»: «Царевна-лягушка, творя чудо в своем танце, возвращает к новой жизни, если воспользоваться словом Н. Федорова, «вытесненное» из нее. Думается, трудно найти более выразительную картину, так просто и вместе с тем так глубоко раскрывающую федоровские идеи родственности, регуляции и патрофикации. Но ведь то же самое делает и Феврония оживляя, воскрешая вытесненное из жизни: сухие деревья зеленеют»26.
Интертекстуальные связи пушкинской сказки, «Царевны-лягушки» и древнерусской житийной «Повести о Петре и Февронии», которые обнаруживаются в глубине текста ________ волшебной сказки»27, но и в благотворном действии восстановленной после брака Гвидона и Царевны-Лебедь родственности, которая возвращает в конце сказки в свое лоно всех персонажей, даже «злых». Слова «ткачихи, поварихи, сватьи бабы Бабарихи» должны были удержать царя, а на самом деле привели его, что называется, в действие освободили от смертельной скованности:
Нынче ж еду ! — Тут он топнул ,
Вышел вон и дверью хлопнул .
Поток глаголов выразительно передает начавшееся освобождение=воскрешение царя-отца. В конечном счете, источником этого воскрешения в сказке является память-любовь его сына. Ведь все началось с того, что князь Гвидон «душой печальной» провожал корабли купцов, плывущих в царство отца, он был «тих, как день ненастный», его съедала «грусть-тоска», он не мог и не хотел забыть отца. Н. Федоров подчеркивает: «Тот, кто первый по чувству любви до конца не оставлял своих родителей, не оставлял их при жизни, хотя и мог жить отдельно по своему совершеннолетию, по своей способности к самостоятельной жизни, не оставлял и после смерти, этот-то человек и был, можно ________
27 Медриш Д. Н . Литература и фольклорная традиция. Саратов, 1980. С. 64.
сказать, первым сыном человеческим»28. Эти слова в полной мере можно отнести и к князю Гвидону. Н. Федоров продолжает: «Определяя благо неоставлением родителей, а зло падением, удалением от них, мы следуем евангельскому критерию»29, и именно этому евангельскому критерию и следует князь Гвидон.
В финале сказки в полноте родственности решается та задача, о которой Н. Федоров писал так: «Задача сынов человеческих — восстановление жизни, а не одно устранение смерти»30. Это восстановление жизни в сказке происходит в виде восстановления Большой Семьи, объединившей и старших и младших:
Царь слезами залился ,
Обнимает он царицу, И сынка, и молодицу, И садятся все за стол; И веселый пир пошел.
Слезы царя — веселые, ибо теперь прощены все в этом мире, в том числе и злодейки-сестры, которые перестали быть «злыми», они «повинились, разрыдались ». Христианская символика слез, которые проливают в финале персонажи, не подлежит сомнению.
День прошел — царя Салтана
Уложили спать вполпьяна.
Добро победило, драма бытия закончилась, и художественная интуиция поэта пафос абсолютно счастливого финала растворяет погружением его в обычные каждодневные формы быта, в которых, собственно, и пребывает бытие. ________
Список литературы О жанровом содержании «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина
- Неёлов Е. М. От волшебной сказки к литературе: фольклорная трансформация евангельской традиции в учении Н. Ф. Федорова о воскрешении//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Петрозаводск, 1994. С. 268.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 257
- Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969. С. 37
- Франк С. Пушкин об отношениях между Россией и Европой//Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 457.
- Медриш Д. Н. Путешествие в Лукоморье. Сказки Пушкина и народная культура. Волгоград, 1992. С. 48.
- Волков Р. М. Народные истоки творчества А. С. Пушкина. Черновцы, 1960. С. 86.
- Трубецкой Е. Иное царство и его искатели в русской народной сказке//Литературная учеба. 1990. № 2. С. 116.
- Непомнящий В. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. М., 1987. С. 203
- Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в поэзии А. С. Пушкина. Кн. 1. Петрозаводск, 1997. С. 129
- Шамаева С. Е. Библия и преподавание литературы. Воронеж, 1996. С. 34
- Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. Петрозаводск, 1959. С. 207.
- Герхардт М. Искусство повествования. Литературное исследование «1001 ночи». М., 1984. С. 381
- Житие Сергия Радонежского//Памятники литературы Древней Руси. XIV -середина XV века. М., 1981. С. 338.
- Suvin D. Zur Poetik des lierarischen Genres Science Fiction//Science Fiction. Theorie und Geschichte. MЯnchen, 1972. S. 27
- Неёлов Е. М. Натурфилософия русской волшебной сказки. Петрозаводск, 1989. С. 30-69 (Гл. 2. Царевна-лягушка).
- Маркова Е. И. Творчество Николая Клюева в контексте северно-русского словесного искусства. Петрозаводск, 1997. C. 289.
- Неёлов Е. М. «Повесть о Петре и Февронии» и «Царевна-лягушка»//Рябининские чтения' 95. Петрозаводск, 1997. С. 180.
- Медриш Д. Н. Литература и фольклорная традиция. Саратов, 1980. С. 64.
- Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982. С. 135.