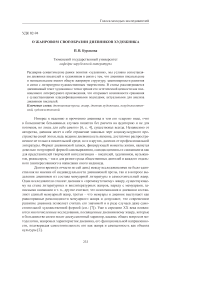О жанровом своеобразии дневников художника
Автор: Буракова Полина Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Расширив семантические рамки понятия «художник», мы условно сопоставляем дневники писателей и художников в связи с тем, что дневники писательские и неписательские имеют общую жанровую структуру, закономерности развития и связи с литературно-художественным творчеством. В статье рассматривается дневниковый текст художника с точки зрения его эстетической ценности как полноценного литературного произведения, что открывает возможности сравнения с существующими классификационными подходами, актуальными для анализа дневников писателей.
Дневниковая проза, жанр, дневник художника, нехудожественный, художественный
Короткий адрес: https://sciup.org/146121992
IDR: 146121992 | УДК: 82-94
Текст научной статьи О жанровом своеобразии дневников художника
Интерес к ведению и прочтению дневника в том его «сыром» виде, «что в большинстве безымянных случаев пишется без расчета на аудиторию и не для потомков, но лишь для себя самого» [6, с. 4], существовал всегда. Независимо от авторства, дневник несет в себе отражение знаковых черт социокультурного пространства своей эпохи, ведь ведение дневника есть явление, достаточно распространенное не только в писательской среде, но и в кругах, далеких от профессиональной литературы. Формат дневниковой записи, фиксирующей моменты жизни, является довольно популярной формой самовыражения, самодисциплины и самоанализа как для представителей творческой интеллигенции – писателей, художников, музыкантов, режиссеров, – так и для разного рода общественных деятелей и каждого отдельного заинтересованного в написании оного индивида.
Долгое время (и отчасти по сей день) между исследователями не было единства как во мнении об индивидуальности дневниковой прозы, так и в вопросе выделения дневников из состава мемуарной литературы в самостоятельный жанр. Одни исследователи относят дневник к «промежуточному» жанру, существующему на стыке литературных и внелитературных жанров, наряду с мемуарами, записными книжками и т. п., другие считают, что воспоминания и дневники составляют единый мемуарный жанр, третьи – что мемуары и дневник выступают как равноправные разновидности мемуарного жанра и допускают, что современное развитие дневника позволяет считать его значимой и в ряде случаев даже самостоятельной художественной формой (см.: [7]). Уже к середине XX века появляются многочисленные исследования, посвященные дневниковому жанру, которые в большинстве своем носят дискуссионный характер, касаясь общих вопросов методологии, жанровых характеристик дневника, его функциональной направленности, подтверждая самостоятельность его как жанра и самоценность как объекта культуры [2].
Первыми фундаментальными работами в исследовании дневника как жанра можно считать монографии О. Г. Егорова [4; 5], в которых автор на примере почти семидесяти текстов анализирует жанровую структуру, эволюцию и связь дневников с художественной прозой XIX века. Исследование жанра дневника с лингвистической точки зрения, классификацию дневников по различным признакам мы находим в объемном труде М. Ю. Михеева [6].
Следует отметить, что внимание к дневнику как объекту исследования филологическими методами отмечается уже в XIX в., когда рост его популярности выходит за рамки субъективно-интимного опыта повествователей и становится явлением полноценно литературным. Именно на этот временной промежуток (эпоху предромантизма, XIX в.) приходится расцвет жанра в рамках «большой» литературы. К созданию произведений целиком («Дневник лишнего человека» И. С. Тургенева, «Записки юного врача», «Записки покойника» М. А. Булгакова) или же отдельных их частей («Журнал Печорина» в романе Лермонтова, «Патриархальные нравы города Малинова» из «Записок одного молодого человека» А. И. Герцена) в жанре дневника прибегают многие известные классики. Не говоря уже о том, что изданные частично или полностью, в исконной или отредактированной до романа форме дневники известных литературных и культурных деятелей издаются и становятся литературной классикой. Наличие явления дневникового повествования и обоснование его художественной ценности способствовало включению дневниковой прозы в полноценный литературный процесс и уравняло в правах с другими жанрами, закрепив за данными текстами само понятие «жанр». Таким образом, «дневник – это литературно-бытовой жанр, в котором повествование ведется от первого лица в виде повседневных или периодических записей о событиях текущей жизни (личной, общественной, литературной)» [8, с. 149]
Наше исследование нацелено на изучение дневников представителей творческой интеллигенции, частично вхожих, но по определению отличных от писательской среды, – художников, чьи рукописные работы эквивалентны по своей культурной значимости работам рукотворным, на выявление их художественной ценности с лингвистических позиций. Литературное, философское, критическое наследие Казимира Малевича как писателя, вызвавшее волну неприятия при его жизни, к примеру, не уступает по масштабности его художественному наследию; эпистолярное наследие Винсента Ван Гога, включающее переписку художника с братом Тео, с голландским художником Антоном ван Раппардом, с французским живописцем Эмилем Бернаром, с младшей сестрой Виллеминой и некоторыми другими лицами, среди которых на первое место следует поставить выдающегося французского живописца Поля Гогена, изданное впервые целиком в 50-х годах прошлого века, продолжает завоевывать все новые и новые десятки и сотни тысяч читателей во всем мире, а теоретические работы В.В. Кандинского, произведения которого являются начальной точкой в истории современного абстрактного искусства, представляют собой не что иное, как настоящие научные труды в области искусствоведения.
Существующий литературный пласт произведений, написанных художниками-писателями, позволяет расширить семантические рамки самого понятия «писатель». Мы можем назвать его «художником слова» или же просто «художником», в понимании «автор, творец». Ведь метаморфозы, коим подвергается творческий путь художника, зачастую ставят перед необходимостью объяснения их корня, причин, которые к ним привели. Но, тем не менее, книги художника издаются, а картины писателя признаются. Параллельное смешение и одновременно смещение одного вида искусств другим (скетчи и наброски меж и за текстом, коллажирование, дневниковый фрагмент как часть изобразительного искусства), что свойственно дневниковым записям художников, представляли и представляют научный интерес, по большей части, с точки зрения их культурологической, искусствоведческой и исторической значимости, являясь дополнением, обоснованием и подтверждением как художественного наследия автора, так и эстетической направленности периода, в который он творил, в целом. Так, дневниковые записи Альбрехта Дюрера, к примеру, позволяют не только проследить почти весь творческий путь художника, но и, помимо биографических фактов, содержат интересный исторический материал о Германии начала XVI в. с охватившими ее слухами о приближении конца света, всеобщим брожением и страстными религиозными спорами: «Самое большое чудо, какое я видел за всю свою жизнь, случилось в 1503 году, когда на многих людей стали падать кресты. <…> Из них я видел один… <…> И упал он на служанку Эйера, которая сидела в задней части дома Пиркгеймера, прямо на рубашку, на льняную ткань. И она была так огорчена этим, что плакала и очень жаловалась, ибо она боялась, что умрет от этого» [3, с. 52]. Подобные фрагменты могут представлять интерес для историков искусства. Однако для лингвиста фактическая информация в данном случае не представляет интереса больше, чем, допустим, способ ее передачи, образность или же элементы саморефлексии автора, что позволяет определить уникальность и «литературность» текста.
С лингвистической стороны тексты художников рассмотрены лишь частично или же, при наличии у художника других литературных текстов (как книги Рафаэля Сойера, американского художника-реалиста, к примеру), служат для уточнения отдельных моментов содержания текста исследователя. Несмотря на то что многие из опубликованных дневников художника пользуются довольно шумной популярностью у читателя, в отдельный литературный жанр они не выделены. Данное обстоятельство, наряду с отсутствием четких критериев классификации, некоторой «расплывчатостью» в их определениях и наличием большого количества видов и подвидов, свойственных дневниковой прозе в целом, служит основанием для разработки методологической базы исследования данного вида текстов. Взяв за основу традиции и подходы к анализу дневниковых текстов художников слова, сложившиеся в филологической науке, мы выделим ряд критериев, позволяющих классифицировать записи художников-писателей в их жанровом своеобразии, то есть попытаемся определить совокупность формальных и содержательных признаков, присущих этим текстам.
На сегодняшний момент не существует единого мнения по вопросу типологии дневниковой прозы в целом. В связи с этим и ввиду многоаспектности изучаемого предмета необходимо, прежде всего, различать дневники художественные, представляющие собой воплощение авторского замысла и фантазии, когда герои, равно как и сам «автор» дневника – это не более чем плод воображения писателя, и дневники нехудожественные, актуализирующие фактическую информацию, которые описывают невымышленную действительность и имеют реального автора [9, с. 29]. Эти дневники «не сочиняются, а ведутся» [5, с. 3], что не препятствует их изданию и зачастую ставит их в один ряд с полноценными произведениями лите- ратуры в своем жанровом подвиде. И если создание первых справедливо принадлежит перу писателя, то нехудожественные, интимные дневники ведутся не только писателями-профессионалами, но и всеми представителями творческой (и не только) интеллигенции: общественными деятелями («Боливийский дневник» Эрнесто Че Гевара), актерами (Travelling to Work: Diaries 1988–1998, Michael Palin), художниками (Дневники Леонардо да Винчи, А. Дюрера) и т. д.
Возникает вопрос: может ли «настоящий», «чистый», аутентичный, соответствующий по определению документальному автобиографическому свидетельству, в датах, часах и минутах воспроизводящий прошедшую жизнь своего автора, касающуюся сугубо личных или фактически подтвержденных впоследствии общественных событий, дневник художника претендовать на художественность и литературность? Ответить на это вопрос однозначно практически невозможно, так как формально оба классификационных типа дневника могут содержать в себе такие отличительные особенности, как: «фрагментарность, нелинейность, нарушение причинно-следственных связей, интертекстуальность, авторефлексию, смешение документального и художественного, факта и стиля…» [1, с. 87], однако такие организующие композицию доминанты, как принципиальная незавершенность, отсутствие единого замысла и намеренно подразумеваемого читателя, делают нехудожественные дневники нарушающими художественные границы жанра дневниковой прозы.
Некоторую трудность в классификации представляют те записи, в которых происходит смешение и в каком-то смысле замещение качеств профессионала одной области искусства другой. Это относится к случаям, когда художник намеренно пишет свой дневник с целью его обязательного прочтения предполагаемым читателем, то есть в данном случае речь может идти о художнике-писателе, что позволяет рассматривать его текст с точки зрения художественной ценности. К примеру, «Дневник одного гения», где Сальвадор Дали предстает перед нами не только как эксцентричный художник, но и как писатель, который пишет дневник намеренно, «дабы представить его как продолжение уже написанной им раньше книги» [10], с целью увековечить свою собственную славу. И, несмотря на «бесстыдные» откровения, которые «с редкостной дерзостью и кощунственностью повествуют о жизни и смерти, о человеке и мире» [Там же], оригинальность в их изложении не оставляет читателя равнодушным и безучастным к сюрреалистическим идеям автора и воспринимается зачастую как проявление гениальности художника, причем «художника», как мы условились ранее, в широком смысле слова. Решение предать рукописи огласке, возможно, должно было доказать, что повседневность гения совершенно не похожа на повседневность обычного человека. Следовательно, мы можем классифицировать дневники художника по степени мотивировки на те, что изначально пишутся для издания, и те, что (независимо от последующих редакций, так как речь идет о пред-текстах) написаны не для широкой публики.
Следует отметить, что между вышеупомянутым примером «полноценно литературного» источника, написанного для публикации, и дневником «интимным», созданным не для прочтения широкой публикой, а для выражения собственного внутреннего мира лишь для себя, безусловно, невозможно поставить знак полного равенства, в том числе и в связи с различием типов адресата. Если в первом случае адресатом выступает читатель непосредственно, то для нехудожественного, «сырого» дневникового текста его наличие так или иначе справедливо, как и присутствие обратной связи, даже если пишется дневник исключительно для себя и мы имеем дело с так называемой «Я – Я» коммуникацией. В этом случае автор может, к примеру, обращаться к несуществующему реципиенту риторически или же сам выступать в роли адресата при последующем прочтении, он одновременно является как субъектом, так и объектом повествования. То есть, несмотря на иной тип коммуникации, не предполагающий внешнего читателя как обязательное условие, даже нехудожественный дневник может содержать в себе черты, схожие с дневником художественным – по степени включения в него элементов авторской фантазии, будь то замысел произведения, концепции и идеи или же вымышленные события и герои.
Таким образом, дневник художника может быть рассмотрен с точки зрения его художественной ценности, а его текст, независимо от того, написан он писателем или же художником-писателем, может считаться полноценно художественным.
Tyumen State University the Department of Foreign Literature
By expanding the semantic scope of the concept of “Artist” the author, for the purposes of the study, compares writers’ and artists’ diaries due to the fact that both of the diary types have a common genre structure, development patterns and links with literary and art creativity. The article deals with the artist’s diary text in terms of its aesthetic value as a full-fledged literary work, which opens the possibility for comparnig it with the existing classification approaches that are relevant to the analysis of the writers’ diaries. Keywords: diary prose, genre, artist’s diary, inartistic, artistic.
Об авторе:
Список литературы О жанровом своеобразии дневников художника
- Богданова Е. В. Языковые особенности жанра дневника//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2008. № 1 (1). С. 28-33.
- Вознесенская И. М. Дневник: особенности семантической структуры и речевой организации//Мир русского слова. 2006. № 3. С. 41-48.
- Дюрер А. Дневники, письма, трактаты: в 2 т. Т. 1. Л.: Искусство, 1957. 248 с.
- Егоров О. Г. Дневники русских писателей XIX века: исследование. М.: Флинта: Наука, 2002. 288 с.
- Егоров О. Г. Русский литературный дневник XIX века. История и теория жанра. М.: Флинта: Наука, 2003. 177 с.
- Михеев М. Ю. Дневник как эго-текст (Россия, XIX-XX). М.: Водолей, 2007. 264 с.
- Новикова Е. Г. Языковые особенности организации текстов классического и сетевого дневников: дис.... канд. филол. наук: 10.02.01/Е. Г. Новикова; Ставропольский гос. ун-т. Ставрополь. 2005. 255 с.
- Скиргайло Т. О. Методика обучения работе над сочинениями нетрадиционных жанров: пособ. для учителей. М.: Русское слово, 2006. 351 с.
- Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры: Динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX века. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. 382 с.
- Якимович А. Сюрреализм и Сальвадор Дали. «Один гений» о себе самом //Сальвадор Дали. Дневник одного гения. URL: http://lib.ru/CULTURE/DALI/dnewnik.txt. (Дата обращения: 20.02.2017.)