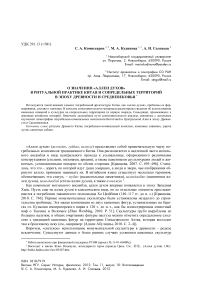О значении «аллеи духов» в ритуальной практике Китая и сопредельных территорий в эпоху древности и средневековья
Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Кудинова Мария Андреевна, Соловьев Александр Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Исследуются такой важный элемент погребальной архитектуры Китая, как «аллея духов», проблемы ее формирования, состава и значения. В качестве сопоставительного материала рассмотрены сведения об использовании каменных изваяний в культурах на сопредельных территориях (в первую очередь, Синьцзяна), примыкавших к границам китайских империй. Намечены дальнейшие пути сопоставительного анализа, связанные с детальным изучением планиграфии погребально-поминальных комплексов Восточной и Центральной Азии в эпоху Древности и Средневековья.
Ритуалы древнего китая, погребально-поминальный комплекс, каменные изваяния, дорога духов, каменные собаки
Короткий адрес: https://sciup.org/14737669
IDR: 14737669 | УДК: 291.13
Текст научной статьи О значении «аллеи духов» в ритуальной практике Китая и сопредельных территорий в эпоху древности и средневековья
«Аллея духов» ( шэньдао , гуйдао , шэньлу ) представляет собой примечательную черту погребальных комплексов традиционного Китая. Она располагается в надземной части могильного ансамбля в виде центрального прохода к усыпальнице, оформленного различными конструкциями (стелами, пилонами, арками), а также каменными скульптурами людей и животных, установленными попарно по обеим сторонам [Кравцова, 2007. С. 495–496]. Считалось, что это – дорога, по которой идут души умерших, а люди и звери, чьи изображения образуют аллею, призваны защищать их. В китайском языке существует несколько терминов, обозначающих эти статуи, – мубяо (надмогильные памятники), шэньдаобяо (памятники аллеи духов), шэньдаобэй (стелы аллеи духов), а также вэньчжун 1 .
Как компонент могильного ансамбля, аллея духов впервые появляется в эпоху Западная Хань. Пусть еще не аллея духов в классическом виде, но ее отдельные элементы прослеживаются в погребении знаменитого полководца Хо Цюйбина (140–117 гг. до н. э.) [Кравцова, 2010. С. 746]. Первые монументальные скульптуры были установлены незадолго до строительства гробницы. Эта малая композиция из двух каменных фигур, установленных на берегах оз. Куньмин императорского парка в 120 г. до н. э., как бы иллюстрировала известный миф о Ткачихе и Волопасе [Zhao Wenbing, 2010. P. 51]. Скульптуры грубо вырублены из больших валунов; в общих очертаниях фигуры пастуха можно отметить определенное сходство с традицией каменных фигур на территории Синьцзянского Алтая, которая восходит там к бронзовому веку (см., например: [Адили Абулицзы, 2010. С. 2–4]).
Впрочем, «светское» использование монументальной скульптуры в древности – редкое исключение. Существуют данные о более ранних случаях установки каменных скульптур
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00489а).
1 Восходит к имени Жэнь Вэньжуна, легендарного героя периода Цинь. См.: 神道。 (Аллея духов). URL: http://baike.baidu.com/view/85407.htm
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 10: Востоковедение © С. А. Комиссаров, М. А. Кудинова, А. И. Соловьев, 2012
в погребальных комплексах Китая. Например, в географическом трактате «Сань фу хуанту» (середина V в.) упоминаются каменные изваяния единорогов- цилиней , стоявших на вершине кургана над могилой императора Цинь Шихуанди (см.: [Комиссаров, Хачатурян, 2010. С. 15]).
Могила Хо Цюйбина входит в погребальный комплекс Маолин императора Западной Хань У-ди (годы правления 140–84 гг. до н. э.), расположенный на территории уезда Синпин, пров. Шэньси. По приказу У-ди над погребением генерала было создано мемориальное сооружение, символизировавшее гору Циляньшань на севере современной пров. Ганьсу, возле которой Хо Цюйбин одержал одну из самых больших побед над сюнну либо (по другой версии) скончался от ран или болезни [Кравцова, 2004а]. В комментарии к «Историческим запискам» «Шицзи соинь» Сыма Чжэня (VIII в.) о захоронении Хо Цюйбина говорится: «На могиле поставлены камни, впереди друг напротив друга стоят каменные лошади, также есть и каменные <изваяния> людей» 2. Всего насчитывается 16 каменных статуй, входивших в погребальный ансамбль. Их первоначальное размещение достоверно неизвестно, по разным предположениям, изваяния могли быть расставлены перед курганом либо на его склонах. Особое внимание исследователи уделяют статуе «конь, топчущий варвара». По мнению А. Пулидана, она находилась к юго-востоку от аллеи духов, так как детали скульптуры открываются только человеку, подходящему к погребению с севера (см.: [Кравцова, 2010. С. 746–747]). В соответствии с классификацией, предложенной М. Е. Кравцовой, скульптуры с могилы Хо Цюйбина подразделяются на три основные группы в соответствии с особенностями исполнения: 1) валуны, на поверхности которых намечены лишь очертания фигур животных; 2) хорошо проработанные реалистические изображения животных; 3) сложные скульптурные композиции.
К первой группе относятся изображения жабы (длина 154,5, ширина 107, высота 74 см), лягушки (длина 285, ширина 215 см) и рыбы (длина 110,5, ширина 41, высота 70 см). Для изображения жабы был выбран камень темно-зеленого цвета с прожилками. Изваяние рыбы изготовлено из камня, напоминавшего по форме рыбу. Возможно, камень подбирался в соответствии с замыслом скульптора.
Вторую группу образуют изваяния фигур скачущей лошади (длина 240, высота 150 см), лежащей лошади (длина 260, высота 114 см), лежащего быка (длина 260, ширина 160 см), припавшего к земле тигра (длина 200, ширина 84 см), лежащего кабана (длина 163, ширина 62 см), спящего слона (длина 189, ширина 103, высота 58 см). Как и в случае со статуей рыбы, для скульптур, изображающих тигра и дикого кабана, были использованы куски камня, напоминавшие по форме этих животных.
К третьей группе относится статуя фантастического хищника, пожирающего овцу (высота 274, ширина 220 м). Скульптура изображает существо с приземистым туловищем, длинными ногами, квадратной головой, увенчанной парой рогов, с острыми клыками и когтями. К этой же группе принадлежит скульптурная композиция (высота 277, ширина 172 см), представляющая борющихся медведя и обезьяну, похожую на гигантскую гориллу. Обезьяна, подпоясанная типичным для китайского мужского костюма поясом, оскалив зубы и преклонив левое колено, сжимает лапами пытающегося вырваться медведя. В эту же группу входит и самое известное изваяние погребения Хо Цюйбина – «конь, топчущий варвара» (длина 190, высота 168 см). Животное показано реалистично и живо, в то время как фигура человека, корчащегося под его копытами, дана лишь схематично. Данная скульптура обычно трактуется как символ военных подвигов Хо Цюйбина, однако Чжан Гуанчжи полагал, что изваяние является аллегорией противоборства женского (инь) и мужского (ян) начал, а не изображает батальную сцену. Также к данной группе относят статую (высота 222, ширина 120 см) стоящего в полный рост человека с непропорционально большой головой, на его лице видны круглые широко распахнутые глаза и как бы ухмыляющийся рот. Скульптура, изображающая духа или божество, высечена из камня, схожего по форме с очертаниями человеческой фигуры [Кравцова, 2010. С. 746–747] 3. По стилю это последнее изображение сходно с упомянутой выше статуей Волопаса.
Как отмечает М. Е. Кравцова, композиция с фантастическим хищником, пожирающим овцу, может быть сопоставлена со «сценами терзания», характерными для скифо-сибирского звериного стиля. Некоторые стилистические особенности в оформлении скульптур (например, каменного барана) настолько близко напоминают образцы степного искусства, что даже возникает предположение: а не участвовали ли в создании новой «горы Циляньшань» хунну-ские пленные мастера, так сказать, для большей достоверности.
В то же время изваяния обезьяны, борющейся с медведем, и «коня, топчущего варвара» не имеют точных аналогов, хотя сам по себе образ коня был распространен в китайском искусстве эпохи Хань. Кроме того, по мнению исследовательницы, число скульптур (16) не укладывается ни в одну из принятых в древнекитайской культуре нумерологических схем, которые и определяли семиотику погребений [Кравцова, 2004б. С. 237].
Следует, однако, заметить, что число «16» не видится совершенно чуждым китайской культуре. Можно предположить, что в данном случае оно являлось производным от важнейшего элемента китайского нумерологического кода – числа «4», обозначавшего как четыре стороны света ( сы фан ), так и четыре времени года ( сы ши ). Таким образом, число «16», т. е. 4 × 4, могло, по нашему мнению, символизировать бесконечность времени и пространства.
Аллеи духов классического вида появляются на восточноханьских погребениях. Первая из известных была сооружена в погребальном комплексе императора династии Восточная Хань Гуан У-ди. До настоящего времени скульптуры не сохранились, о них известно благодаря сообщению «Канона вод с примечаниями» («Шуй цзин чжу»). В сочинении Ли Даоюаня (род. ок. 455 г.) говорится о том, что перед могилой Цао Суна, отца Цао Цао, «стелы на востоке и западе, друг напротив друга стоят две каменные лошади высотой 8 чи 5 цуней, камень обработан грубо, не сравнится с изваяниями слонов и лошадей прохода [туннеля, суйдао ] <к могиле> Гуан У» 4. По-видимому, перед усыпальницей находилась аллея духов, состоящая из установленных попарно искусно выполненных каменных изваяний, возможно, закрытая сверху кровлей (отсюда и мог появиться термин «туннель»).
Во времена Поздней Хань обычай строить аллеи духов на могилах распространился на погребения аристократии и чиновников. Кроме тигров, баранов, лошадей и верблюдов, появляются изваяния львов, а также фантастических существ бисе и тяньлу 5 . Последний из двух, Небесный олень ( тяньлу ), – фантастическое животное китайской мифологии. Есть два варианта названия этого существа. В первом случае оно записывается иероглифами тянь – «небо» и лу – «олень; во втором случае используется другой иероглиф лу («жалование», «карьера»). Поэтому тяньлу считался вестником Неба, его появление сулило счастье. Так, в разделе «Записи о благоприятных предзнаменованиях» династийной истории «Сун шу» (V–VI вв.) говорится: «Небесный олень – это животное с чистой душой. Пятицветное сияние пронизывает его насквозь, нравственность государя достигнет совершенства» 6 . Обычно тяньлу изображался как олень с крыльями и одним рогом на голове. В китайской мифологии был еще один родственный Небесному оленю персонаж – Белый олень ( байлу ), являвшийся ездовым животным и спутником бессмертных- сяней . В традиционной китайской благопожелательной образности он служил символом долголетия (как компаньон бессмертных) и удачной карьеры (благодаря указанной выше омонимии слова лу ). Образы этих волшебных животных формируются приблизительно одновременно – в эпоху Хань [Кравцова, 2004б. С. 415–416].
Другое фантастическое животное китайской мифологии – бисе. Упоминания о нем можно найти в словаре «Цзи цзю пянь» («Письмена о быстром успехе»), составленном Ши Ю в 40 г. до н. э., где говорится: «Шэцзи, бисе устраняют зло» 7. Также бисе описан в коммента- рии Янь Шигу к «Хань шу»: «Шэцзи, бисе – это чудесные звери… Бисе может избавлять от нечистой силы». В «Хань шу» говорится, что в стране Уишаньли (на юге современного Афганистана) 8 «есть таоба, львы, носороги» 9. Янь Шигу в комментарии к этому отрывку цитирует ученого Мэн Кана из царства Вэй эпохи Троецарствия: «Таоба иначе еще называется фуба, походит на оленя с длинным хвостом, однорогий также называется небесным оленем, двурогий иначе называется бисе» 10 . Таким образом, бисе – это животное, похожее на оленя с длинным хвостом и двумя рогами. Однако нефритовые фигурки бисе из самого раннего каталога нефритовых изделий («Гу юй ту пу», составлен в XII в.), датированные эпохой Хань, не имели рогов, что свидетельствует об отсутствии единого представления об этом животном 11.
В более позднее время бисе , вероятно, по внешнему облику и функциям сближается со львом, образ которого вместе с буддизмом пришел из Индии приблизительно в I–II вв. н. э. [Васильев, 2001. С. 410; Кравцова, 2004б. С. 410]. При династии Северная Вэй каждый раз, когда статую Будды выносили из храма, впереди процессии шли люди, изображавшие львов и бисе . Каменные скульптуры бисе , ставившиеся перед могилами аристократии Южных династий, напоминали львов, они не имели рогов, отличались большой высотой и тучным «телосложением». Основное их отличие от изображений львов заключалось в паре крыльев по бокам 12.
«Видовая принадлежность» скульптур, ставившихся на аллеях духов, неоднозначно определялась китайскими учеными на протяжении многих столетий. Сюй Сун, живший во времена танских государей Сюань-цзуна и Су-цзуна, в «Цзянькан шилу» («Доподлинные хроники г. Цзянькан»), относит каменные скульптуры животных, установленные перед гробницей Сяо Шуньчжи (посмертный титул – лянский Вэнь-ди) в Даньяне, к бисе , а танский историограф Яо Сылянь (557–637) в «Лян шу. У-ди цзи» называет их цилинями . Южносунский Чжан Дуньи в «Лю чао шицзи бяньлэй» («Классификация событий Шести династий») все каменные зооморфные скульптуры, ставившиеся на аллеях духов императорских и аристократических мавзолеев Южных династий, определяет как цилиней . В настоящее время выделяются четыре основные точки зрения на эту проблему. Чжу Сицзу в «Докладе об исследовании гробниц периода Шести династий. Изучение небесных оленей и бисе » полагает, что существа с одним рогом назывались небесными оленями, с двумя рогами – бисе , безрогие – таоба . Его сын Чжу Ци в сочинении «Иллюстрации и исследования гробниц Ланьлина и Цзянькана периода Шести династий» предлагает следующую классификацию: однорогие животные – цилини , двурогие – небесные олени ( тяньлу ), безрогие – бисе . Яо Цянь и Гу Бин в работе «Искусство периода Шести династий» также предлагают разделять животных, чьи скульптуры устанавливались перед усыпальницами эпохи Южных династий, на три вида: звери без рогов - львы ( шицзы ), с одним рогом - цилини , а с двумя рогами - небесные олени ( тянь-лу ). Ян Куань в работе «Историческое исследование погребально-поминальной системы Древнего Китая» полагает, что все каменные скульптуры животных, ставившиеся перед гробницами, с одним или двумя рогами представляют собой изображения священных оленей ( шэньлу ) и поэтому должны называться цилинями , а все установленные перед могилами аристократии скульптуры без рогов должны именоваться бисе . В обобщающем томе «История древнекитайской архитектуры» (под ред. проф. Лю Дуньчжэна) выдвигают следующее предположение: «В настоящее время большая часть гробниц Южных династий не имеет входной границы, а по двум сторонам аллеи духов установлены скульптуры крылатых животных; из них перед императорскими усыпальницами ставились фигуры цилиней , а перед могилами аристократов – бисе » 13 .
До настоящего времени сохранились несколько могил с каменными изваяния эпохи Восточная Хань. Например, на могиле чиновника Цзун Цзы (г. Наньян, пров. Хэнань) друг напротив друга установлены две каменные скульптуры, на одной выгравировано бисе , на другой – тяньлу 14 . Небесный олень имеет следующие размеры (м): высота 1,65, длина 2,20; размеры бисе (м): высота 1,65, длина 2,35. Вдоль спины на обеих статуях от головы до хвоста вырезаны круглые позвонки, шеи вытянуты, пасти раскрыты, глаза круглые, выпученные, грудь выпячена вперед, животные как будто готовятся расправить крылья, лапы полусогнуты, хвосты загнуты вверх. Еще один пример – пара каменных статуй перед могилой Фань Миня, правителя округа Ба (в уезде Лушань, пров. Сычуань). У животных были крылья, рогов не было; неподалеку стояла еще одна каменная скульптура относительно небольшого размера, без рогов и крыльев. Перед могилой Ян Цзюня (в том же уезде Лушань) стояла пара скульптур без крыльев и рогов, на голове от макушки до шеи была вырезана волнистая шерсть, поза, в которой изображен зверь, схожа с описанными выше. В д. Шимаба (уезд Лушань) есть еще две зооморфные каменные скульптуры. Одна представляет собой барана, вторая – существо с рогом на голове, крыльями, волнистой шерстью на голове, бородой, левая передняя нога вытянута. Перед могилой Гао И (уезд Яань, пров. Сычуань) стоят парные скульптуры с массивным туловищем, большой головой, раскрытой пастью, без рогов, крылья с длинными перьями.
Что касается функций изваяний, то основной из них, по-видимому, была защита от злых сил. На это указывает само название фантастического существа бисе . Данные письменных источников подтверждают такое предназначение скульптур шэньдао . В сочинении «Фэн су тун» (II в.) Ин Шао сказано: «Перед могилами – верхушки деревьев, на дороге – каменные тигры. В «Чжоу ли» говорится: «Заклинатели духов в день похорон… изгоняют демонов». Демоны любят поедать печень и мозг покойников, люди не могут заставить заклинателя демонов все время стоять возле могилы и защищать ее, а демоны боятся тигра и кипариса, поэтому перед могилами устанавливают <статуи> тигров и <садят> кипарисы» 15. Тигр считался главным защитником от демонов в Китае (см., например: [Васильев, 2001. С. 409]). Кипарис в китайских верованиях также наделялся целительно-охранительными свойствами, включая защиту от злых духов и от покойников [Кравцова, 2004б. С. 375].
Функции животных как защитников погребений известны по рельефам и фрескам, обнаруженным внутри ханьских гробниц. Особенно распространены рельефные изображения феникса, дракона и черепахи, обвитой змеей (так называемый Черный воин, сюань у ). Именно в эпоху Хань формируются четверичная (по сторонам света) и пятеричная (стороны света + центр) модели организации пространства. Животные, ассоциировавшиеся со сторонами света (восток – Лазурный дракон, юг – Красная птица, запад – Белый тигр, север – Черный воин, центр – Желтый дракон), выступают также в роли духов – хранителей могил. В том же качестве известно еще одно священное китайское животное – единорог- цилинь , чьи изображения часто встречаются на воротах гробниц.
Кроме изображений отдельных реальных и фантастических животных на стенах погребальных сооружений эпохи Хань присутствуют и сцены, по-видимому, представляющие собой различные ритуалы, участниками которых были священные животные. Наиболее изучен к настоящему моменту обряд «Большое изгнание» ( Да Но ). Это был ритуал очистительной магии, проводившийся как во время похорон, так и в начале года и нового сельскохозяйственного сезона. Сведения об этом обряде сохранились в письменных источниках. Так, в одном из классических древнекитайских памятников «Весны и осени господина Люя» (III в. до н. э.) говорится: «В этой луне следует повеление соответствующим чинам устроить Да Но – Большое Изгнание, разорвав перед городскими воротами жертвенных животных, выставив земляных волов, дабы спровадить холодную ци » [Люйши чуньцю, 2010. С. 172].
Обряд «Большое изгнание» упоминается в связи с земледельческими ритуалами в «Ли цзи» (I в. до н. э.) и в «Чжоу ли» (II в. до н. э.): «Луна конца зимы... приказано соответствующим чинам провести [обряд] Большое изгнание... вынести земляную корову для проводов ци (эфира) холода» («Ли цзи»); «В конце зимы... разбросать ростки на все четыре стороны, чтобы отогнать дурные сны, затем приказано начать Изгнание мора» («Чжоу ли») (цит. по: [Яншина, 1984. С. 46]).
Впоследствии этот обряд вошел в конфуцианскую религию, благодаря чему сохранилось его подробное описание в «Хоу Хань шу» (V в.). Обряд проводился в г. Лоян, столице Поздней Хань, накануне нового года и представлял собой торжественное шествие с пением и музыкой. В состав процессии входили люди в костюмах 12 мифических животных, 120 мальчиков в возрасте 10–12 лет, а также многочисленные придворные. Процессия с музыкой и пением обходила императорский дворец, после чего начинались шаманские пляски, совершавшиеся жрецом и 12 «животными-духами». После пляски все присутствующие зажигали факелы и направлялись к главным воротам дворца, за которыми их дожидалась тысяча воинов-всадников. Они, не переступая порога, принимали горящие факелы у участников процессии и несли их к городским воротам, за которыми ждала своей очереди еще тысяча всадников. Получив факелы, они скакали к реке Ло и бросали горящие головни в воды. Таким образом, огонь очищал город от нечисти, а вода уносила ее. Очищение императорского дворца и столицы символизировало очищение всей империи (хотя подобные обряды проводились и на местах). Предполагалось, что в новом году вся страна будет обеспечена защитой от мора, сельскохозяйственных вредителей и стихийных бедствий.
Рельеф предположительно с изображением этого обряда сохранился на фронтоне северной стены внешнего зала инаньской могилы. Там изображена процессия из нескольких фигур, возглавляет ее дракон, а замыкает тигр. Звери идут на задних лапах, в передних держат копье и щит. Остальные участники процессии – люди, одетые в костюмы различных животных [Там же. С. 45–47].
Образы животных, хранителей сторон света и участников ритуала Да Но , восходят к тотемистическим и астральным верованиям, их охранительные функции также наследуют представлениям о тотеме как защитнике происходившего от него коллектива.
Помимо аналогий в ханьском искусстве изображения животных, функционально близкие скульптурам из аллеи духов, можно найти и в других частях территории Китая. Так, каменные скульптуры собак с п-ова Лэйчжоу выступали в качестве защитников дверей, домов, городских ворот, рек, могил, в период засухи к ним обращались с просьбами о ниспослании дождя, кроме того, они воспринимались как божества, дарующие сыновей и богатство.
Всего на территории Лэйчжоу в городском округе Чжаньцзян пров. Гуандун до настоящего времени сохранилось, по разным данным, от 10 до 25 тыс. 16 древних фигур собак, высеченных из камня, которых местные жители называют «лэйчжоускими бинмаюнами » 17 , или «южными бинмаюнами ». Их внешний облик и размер могут сильно различаться. Самые крупные статуи в высоту достигают 2,5 м, весом примерно 1 т, размеры самых маленьких скульптур не превышают 10 см, вес около 0,5 кг, в основном же габариты статуй соответствуют размерам домашних собак, которые изображены в различных позах: стоя, сидя или лежа [Память…, 2006. С. 92] 18. Подобные скульптуры помимо Чжаньцзяна распространены и в других районах пров. Гундун, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, провинциях Юньнань и Хайнань, а также во Вьетнаме и Сингапуре 19.
Зачастую каменные собаки были своего рода духами-защитниками и хранителями дверей. Первоначально они изображались свирепыми и грозными, их внешний вид должен был вну- шать ужас. Впоследствии их облик претерпел существенные изменения, на мордах стали воспроизводить подобие улыбки. Поклонение каменным фигурам собак появляется в эпоху Тан, развивается при Сун, а расцвета достигает при династиях Мин и Цин. Самыми древними являются скульптуры, найденные на «Склоне каменных собак» («Ши гоу по») недалеко от древней столицы округа Лэйчжоу, их возраст насчитывает более 1 400 лет 20. Ранние изображения собак были простыми и грубыми, постепенно, вместе с развитием технологии работы с камнем, они усложняются, становятся более тонкими и изящными [Память…, 2006. С. 92–93].
Облик изваяний зависел от выполняемых функций. Обычно статуи, установленные для защиты отдельных домов, имели дружелюбный вид, а фигуры собак – хранителей городов достигали огромных размеров и выглядели довольно свирепо. Возле древней дороги, ведущей от г. Лэйчжоу на юг, в направлении о-ва Хайнань стояла как раз такая громадная статуя собаки, водруженная на постамент в виде колонны высотой 4 м. Эта скульптура была поставлена для защиты города.
В центральных районах Китая с молитвами о дожде обычно обращались к драконам, в Лэйчжоу же эти просьбы направлялись каменным собакам. До образования КНР на п-ове Лэйчжоу в случае засухи организовывались шествия с каменными фигурами собак, чтобы вознести молитвы о дожде. Большая часть таких обрядов проводилась на лэйчжоу-ском «Склоне каменных собак», церемонии отличались большим размахом, число участников могло достигать 2–3 тыс. чел. Древние жители этого района, верившие в чудодейственную силу каменных собак, изображавшихся с подчеркнуто крупными половыми органами, приносили им жертвы и обращались с просьбами о даровании детей, сохранении их здоровья и благополучия. Многие дети получали имя Гоу-цзы («Собачий сын»). До сих пор некоторые старики в 1-й и 15-й дни первого месяца по лунному календарю приносят к каменным статуям собак три пиалы бататового супа или три пиалы риса с куском свинины.
По данным китайских этнографов, п-ов Лэйчжоу первоначально населяли представители народности ли . В эпоху Тан и Сун туда переселились яо , мяо , чжуаны , которые вышли с территории современной пров. Фуцзянь. Дошедшие до наших дней каменные фигуры собак связаны с культурой этих народностей. У яо и шэ всегда существовала традиция почитания собаки. Своим предком представители этих народов считают пятицветного пса Паньху, которого они также называют драконовой собакой, «обладающей мощью свирепого тигра» [Там же. С. 95–96]. Есть данные о том, что и некоторые из мяоских родов поклонялись собаке, изображение которой стояло в специальном храме и ему приносили кровавые (в том числе человеческие) жертвы 21.
Все описанные выше изображения животных были созданы для защиты погребений и иных сооружений. Позднее скульптуры, установленные перед гробницами, начали выполнять еще одну функцию: они указывали на социальный статус покойного. Шэнь Юэ (441–513) писал в «Сун шу» (в разделе «Трактат о ритуалах»): «После эпохи Хань проводы покойных в Поднебесной стали слишком пышными, все строят каменные усыпальницы, <устанавливают> каменные <изваяния> зверей, стелы с надписями». В танском сборнике бицзи «Записи г-на Фэна о виденном и слышанном» («Фэн ши вэнь цзянь цзи») Фэн Яня говорится: «Со времен династий Цинь и Хань перед могилами императоров устанавливали каменных цилиней, каменных бисе, каменных слонов, каменных лошадей, они украшали могилы, словно почетный караул при жизни <императора>» (цит. по: [Фэн Хэцзюнь, 2007. С. 245–246]). В период Южных и Северных династий возникает строгая регламентация состава скульптур аллеи духов в зависимости от статуса покойного. Например, скульптуры животных с рогами могли быть установлены только на могилах императоров 22.
Подводя итоги, можно заключить, что истоки традиции установки каменных изваяний на погребениях в Китае восходят, видимо, к эпохе Цинь, о чем свидетельствуют письменные источники, сами скульптуры не сохранились или же пока неизвестны. Самым ранним дошедшим до нас образцом монументальной каменной скульптуры в Китае являются статуи погребального ансамбля на могиле генерала Хо Цюйбина, композиция и семантика которых пока слабо изучены. В эпоху Восточная Хань на могилах императоров и аристократов появляются аллеи духов в виде установленных попарно изваяний реальных и фантастических животных (тигров, слонов, лошадей, цилиней и др.), гораздо реже – чиновников или воинов в доспехах, которые дополнялись стелами, арками, пилонами. Основным предназначением этих скульптур была защита от злых сил, позднее они начинают обозначать статус покойного. Основные черты аллеи духов как компонента погребальных комплексов формируются уже в эпоху Хань, и с тех пор она остается обязательным элементом императорских захоронений в Китае, до династий Мин и Цин включительно (см.: [Фэн Хэцзюнь, 2007. С. 257–261]).
Если теперь в поисках сравнительного материала обратиться к сопредельным территориям Центральной Азии (включая Синьцзян) и Сибири, то мы обнаружим развитую традицию изготовления каменных изваяний, которая имеет давнюю историю, восходящую к бронзовому веку. Однако монументальная скульптура на ранних этапах отличалась значительным своеобразием, а ее распространение имело очаговый характер. Связь этих древнейших изображений с каменной пластикой последующих историко-культурных образований прослеживается не столько с позиций эволюции художественной «школы», сколько в плане дальнейшего поступательного развития схожих мировоззренческих установок, связанных, с сакрализацией образа потестарных персонажей 23.
Обычай установки стел с характерными изображениями животных и деталей воинской экипировки на гранях каменного блока, превращающих природный монолит в предмет пластического искусства, получает развитие уже в скифскую эпоху в виде так называемых олен-ных камней. Обращает на себя внимание тот факт, что «физиогномические» характеристики для древнего скульптора и его зрителей, похоже, были не столь важны и находились практически за пределами изобразительного канона. А весьма условная антропоморфность объекта в большинстве случаев формировалась за счет изображения предметов амуниции и расположения их на поверхности стел в соответствии с пропорциями человеческой фигуры. Напрашивается вывод, что тщательность воспроизведения экипировки, которая, будучи общепонятным для потестарных обществ знаком различия, «оживляла» и индивидуализировала персонаж, делала его узнаваемым даже без воспроизведения черт лица [Соловьев и др., 2011].
Тем не менее в каменной скульптуре эпохи раннего Средневековья – следующего по хронологической и историко-культурной шкале этапа развития каменной пластики в регионе – проявляется новый феномен, связанный с бесспорным вниманием к передаче лица, способы воспроизведения которого варьировались от простой линейной «графики», выполненной выбивкой на плоской поверхности камня, до фактически скульптурных приемов невысокого рельефа. Впрочем, встречаются также изваяния, имеющие антропоморфную форму – с выделенным плечевым поясом, шеей и головой, на которой скульптурными методами никогда не воспроизводилось лицо 24.
Местные элиты в ходе постоянных мирных, но главным образом немирных контактов с очередной китайской империей (или ее производными) проникались могуществом и са-кральностью императорской власти, воплощение которой они начинали копировать и воспроизводить в силу доступных им средств, заимствуя престижную атрибутику, формы ее демонстрации, элементы обрядовой сферы – вплоть до принятия базовой идеологии 25 . Обратим внимание в интересующем нас аспекте на планиграфию погребально-поминальных комплексов на этих территориях 26, таких как ряды каменных балбалов или оградки с каменными изваяниями, выполнявших роль небольших храмовых построек. Определенным аналогом им служат небольшие прямоугольные сооружения у начала аллеи духов, которые отводились для поминальных церемоний. Впрочем, размеры их могли варьировать до весьма значительных, особенно в случаях с императорскими комплексами. Такой элемент погребального ансамбля, известный уже в циньское время (221–206 гг. до н. э.), в развитой форме продолжает использоваться при династии Мин (1368–1644). Там проводились ритуалы с использованием пищи, предполагавшие присутствие изображения «хозяина» погребального комплекса, для которого отводилось специальное место. Фактически данная постройка представляет собой типологический аналог (правда, гораздо более масштабный и обрядовосложный) поминальным оградкам потестарных представителей средневековых кочевых империй. Отметим, что в обоих случаях указанные конструкции находились в стороне от собственно погребального сооружения, к которому вела специальная тропа.
Еще со времен Цинь Шихуанди в Китае среди объектов погребального комплекса известны скульптурные изображения. Речь идет не только о терракотовой армии Первого императора, но и о многочисленных фигурах сановников и придворных, выполненных из глины с тем же портретным сходством и подробностями в облачении, что и знаменитые фигуры воинов. Традиция установки аналогичных по смыслу фигур известна также в корейском и японском Средневековье, где они могли располагаться как вкруговую, так и в ряд. Находилось место изваяниям людей и на китайских аллеях духов, во всяком случае, в эпоху Средневековья. Определенные параллели этому феномену можно усмотреть на памятниках древнетюркского времени. Речь идет о рядах балбалов, трактовки значения которых варьируются от священных коновязей до изображений убитых врагов.
При необходимости актуализировать тот или иной образ для использования в ритуале его могли обрядить в соответствующую одежду. В мифологических представлениях внешний покров мог полностью изменить внутреннюю сущность объекта. Наброшенная шкура превращала человека в волка, птицу или даже лягушку, а одежда, которая в том числе служила и социальным маркером, способна была сделать из нищего принца и наоборот. Традиции драпировки каменных сакральных образов, «доводившей» облик почитаемого объекта до необходимой персонификации, сохранились в кочевой среде до наших дней. В этом аспекте представляют интерес сведения относительно современного использования каменного изваяния, считавшегося воплощением мифологического шамана-батыра, легенда о котором записана еще в XIX в. Г. Н. Потаниным. Согласно имеющимся данным, «это был камень высотой в человеческий рост без каких-либо антропоморфных признаков… Обернутый в шелк, он приобретал сходство с человеческой фигурой. Перед ним ставились разного рода жертвы, а ткань ежегодно обновлялась в день совершения служб…» [Галданова и др., 1987. С. 54]. Визуально этот объект обрядовой церемонии представлял собой самый обычный камень 27, совершенно такой же, как и те, что использовались для балбалов.
С позиций сказанного представляется возможным иное толкование рядов каменных истуканов возле древнетюркских памятников, особенно в свете их сопоставления с китайской традицией, предполагавшей установку целых галерей скульптурных образов. При этом лицо на камне могло наноситься с помощью красителей, что вполне согласуется с китайскими сведениями о рисовании тюрками портретов покойных (ср.: [Ермоленко, 2004. С. 48–49]). К этой мысли подводит и вышеупомянутая стилизованная плоская скульптура из раскопок В. И. Молодина на плато Укок. Фактически у нее все атрибуты древнетюркского изваяния из группы упрощенных, исключая лицо, площадка для воспроизведения которого подготовлена должным образом. Итак, мы подходим к возможному выводу о том, что каменные плиты и стелы, установленные возле оградок и не имеющие дополнительной моделировки корпуса и деталей экипировки, могли выполнять роль манекенов, на которых набрасывалась одежда, застегивались пояса, подвешивалось оружие и т. д. Все детали, которые изменяли их облик и доводили до ассоциации с конкретной особой, воспроизводились методом коллажи-рования из реальных вещей, которые либо действительно принадлежали изображаемому субъекту, либо соответствовали его идеальному образу. А весь сложившийся ансамбль в общих чертах может, с известными оговорками и поправками, соответствовать аллее духов в ее развитой форме.
Думается, древние тюрки знали погребальные традиции знати своих юго-восточных соседей и восприняли зрелищный аспект их культуры, адаптировав полученные идеи под свои задачи и возможности. Не исключено, что иногда даже использовали чужие мастерство и опыт. Во всяком случае, целый ряд ныне доступных комплексов дает серьезные основания для размышлений в этом направлении. Еще А. Н. Бернштам указывал на факт заимствования художественных приемов из копилки из арсенала изобразительных средств мастеров Китая, Средней Азии и даже Индии [1952. С. 81, 144].
Перспективным для решений возникающего круга вопросов представляется детальное, шаг за шагом сравнение планиграфии погребальных памятников средневековых китайских империй и кочевого тюркоязычного населения (прежде всего, на территории Синьцзяна, где в силу географических факторов процессы межкультурного общения и транзита протекали наиболее интенсивно). Пока можно констатировать, что имевшая общие (или близкие) истоки традиция использования статуарных конструкций в погребально-поминальных комплексах Китая и его северной периферии [Соловьев и др., 2012] затем развивалась в разных направлениях, которые условно можно назвать «мифологическим» (с преобладанием звериных образов) и «эпическим» (с концентрацией на фигуре мужчины-воина). Предстоит еще выяснить приоритеты в трансляции идеи статуарных образов в ритуальную жизнь кочевых империй, тем более, что существование целых аллей антропоморфных образов, образующих общий ансамбль с архитектурой каменных кладок и насыпей, известно на примере оленных камней на территории Монголии [Novgorodova, 1980. S. 132, 133; Preliminary report…, 2008. P. 78, 86–87].
阿迪力 ⋅ 阿布力孜。新疆古代俑塑艺术。乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社, 2000 。 ( Адили Абулицзы . Древнее искусство фигуративной пластики Синьцзяна. Урумчи: Синьцзян мэйшу шэин чубаньшэ, 2010. 112 с.)
年轮的记忆:解读生肖文化:戌狗 / 舒大丰主编。南昌:百花洲文艺出版社, 2006 。 (Память годовых колец: разъяснение культуры зодиакального цикла: Собака / Ред. Шу Дафэн. Наньчан: Байхуачжоу вэньи чубаньшэ, 2006. 152 с.)
冯贺军。中国古代雕塑述要。北京:紫禁城出版社, 2007 。 ( Фэн Хэцзюнь. Обзор древней скульптуры Китая. Пекин: Цзыцзиньчэн чубаньшэ, 2007. 272 с.)
Список Интернет-материалов
Tomb of General Huo Qubing of the Han Dynasty // Сервер Кит. информ. интернет-центра под управлением Пресс-канцелярии Госсовета КНР. URL: http://www.china.org.cn/ eng-lish/features/atam/115101.htm (дата обращения 28.08.2012).
神道。 (Аллея духов) // Сайт «Байду байкэ», крупнейшей эл. энциклопедии на кит. яз. URL: http://baike.baidu.com/view/85407.htm (дата обращения 18.08.2012).
班古。汉书。 ( Бань Гу . Хань шу) // Cайт Пекинской компании «Госюэ: передача культурного наследия разных эпох» ( 北京国学时代文化传波股份有限公司 ), крупнейшей базы данных по классич. кит. лит. URL: http://www.guoxue.com/shibu/24shi/hansu/hsu_111.htm (дата обращения 12.08.2012).
石兽。 (Каменные звери) // Сайт Нанкинской городской библиотеки «Цзинь лин». URL: http://www.jllib.cn/ffy/nclmsksy/art.htm (дата обращения 30.07.2012).
雷州石狗文化。 (Культура лэйчжоуских каменных собак) // Сайт Библиотеки г. Чжань-цзян (пров. Гуандун). URL: http://www.zjlib.com/3/2/sg.htm (дата обращения 30.07.2012).
雷州石狗。 (Лэйчжоуские каменные собаки) // Сайт «Байду байкэ», крупнейшей эл. энциклопедии на кит. яз. URL: http://baike.baidu.com/view/863448.htm (дата обращения 18.08.2012).
司马迁。史记。 (Сыма Цянь. Исторические записки) // Cайт Пекинской компании «Госюэ: передача культурного наследия разных эпох» ( 北京国学时代文化传波股份有限公司 ), крупнейшей базы данных по классической кит. лит. URL: http://www.guoxue.com/shibu/24shi/ shiji/sj_111.htm (дата обращения 14.07.2012).
旺年 -- 雷州石狗佛山首展。 (Урожайный год – первая выставка лэйчжоуских каменных собак в г. Фошань) // Сайт Музея г. Фошань. URL: http://www.foshanmuseum.com/zl/sg/ kr_disp.asp?photo_class=1&page=1 (дата обращения 10.08.2012).
沈约。宋书。 ( Шэнь Юэ . Династийная история Сун) // Cайт Пекинской компании «Госюэ: передача культурного наследия разных эпох» ( 北京国学时代文化传波股份有限公司 ), крупнейшей базы данных по классической кит. лит. URL: http://www.guoxue.com/ shibu/24shi/songsu/sons_029.htm (дата обращения 23.07.2012).
Материал поступил в редколлегию 30.08.2012
Sergei A. Komissarov, Maria A. Kudinova, Alexander I. Solovyev
THE MEANING OF THE «SPIRIT PATH» IN THE RITUAL PRACTICE OF CHINA AND NEIGBOURING TERRITORIES (ANCIENT AND MEDIEVAL EPOCH)