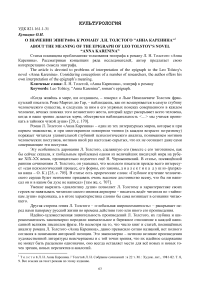О значении эпиграфа к роману Л.Н. Толстого "Анна Каренина"
Автор: Куницын Олег Иосифович
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1 (10), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблематике толкования эпиграфа к роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Рассматривая концепции ряда исследователей, автор предлагает свою интерпретацию смысла эпиграфа.
Л. н. толстой, "анна каренина", эпиграф к роману
Короткий адрес: https://sciup.org/170189407
IDR: 170189407 | УДК: 821.161.1-31
Текст научной статьи О значении эпиграфа к роману Л.Н. Толстого "Анна Каренина"
«Когда живёшь в мире, им созданном, – говорил о Льве Николаевиче Толстом французский писатель Роже Мартен дю Гар, – наблюдаешь, как он всматривается в самую глубину человеческого существа, и следуешь за ним в его упрямых поисках совершенного в каждом человеке, вечных поисках того незаметного жеста, который вдруг раскрывает всего человека, когда и наше зрение делается зорче, обостряется наблюдательность <…> мы учимся проникать в тайники чужой души» [20, с. 170].
Роман Л. Толстого «Анна Каренина» – один из тех литературных миров, которые и при первом знакомстве, и при многократном повторном чтении (в каждом возрасте по-разному) поражает читателя удивительной глубиной психологического анализа, пониманием мотивов человеческих поступков, мотивов иной раз настолько скрытых, что их не осознают даже сами совершающие эти поступки.
Эту особенность дарования Л. Толстого, сделавшую его (вместе с его тяготением, как бы сейчас сказали, к глобальным проблемам) одним из величайших писателей мира на рубеже XIX-XX веков, проницательно подметил ещё Н. Чернышевский. В статье, посвящённой ранним сочинениям Л. Толстого, он указывал, что молодого писателя прежде всего интересует «сам психологический процесс, его формы, его законы, д и а л е к т и к а д у ш и» (разрядка наша – О. К.) [25, c. 705]. В статье есть пророческие слова: «Глубокое изучение человеческого сердца будет неизменно придавать очень высокое достоинство всему, что бы ни написал он и в каком бы духе не написал» [там же, с. 707].
Умение выразить «диалектику души» позволяет Л. Толстому в характеристике своих героев не навязывать читателю своего мнения априорно – писатель ведёт читателя по «тайникам души» персонажа, а в итоге характеристика словно бы сама возникает в сознании читающего.
Другая сторона гения Л. Толстого – «глобальная широкоохватность» – раскрывает перед нами панораму русской жизни во времена действия того или иного его произведения.
Идейно-художественная значительность произведений Л. Толстого, их глубина и ши-рокоохватность закономерно породили внимательное и бережное отношение к каждой написанной великим писателем фразе. Но несмотря на то, что число книг и статей, посвящённых анализу романа Л. Толстого «Анна Каренина», давно превысило сотню названий, нет полного согласия в понимании авторской позиции. Это закономерно – истинно великие произведения художественной литературы неисчерпаемы и с той точки зрения, что их идейное содержание не может быть расценено однозначно, оно всегда оставляет место для всё новых и новых точек зрения, новых перспектив и аналогий.
-
1 Т о л с т о й Л. Н. Анна Каренина // Толстой Л. Н. Собрание сочинений : в 22 т. М. : Худож. лит., 1981-82. Т. 8,
В проблематике, связанной с идейно-художественным содержанием «Анны Карениной», одним из самых сложных «тёмных мест» и до наших дней остаётся толкование эпиграфа к роману – «Мне отмщение, и Аз воздам». "Как убедительный пример мобилизации читательских усилий и знаменательного диалога с читателем, – пишет Г. Ищук, – предстаёт полный затаённых смыслов эпиграф – «Мне отмщение, и Аз воздам». О нём спорили более ста лет" [15, с. 115].
В качестве эпиграфа к роману Л. Толстой воспользовался фразой из Библии – «Мне отмщение, и Аз воздам». В каноническом церковно-славянском тексте эта фраза выглядит так: «Въ день отмщения воздамъ» [4, с. 205] – здесь со свойственным Библии суровым лаконизмом выражена идея возмездия как такового. В традиционном русском переводе этот эпизод трактуется применительно к конкретной ситуации – разгневанный на людей бог Иегова произносит: «У меня отмщенiе и воздаянiе, когда поколеблется нога ихъ; ибо близокъ день погибели ихъ, скоро наступитъ уготованное для нихъ» (Ветхий завет, Второзаконие, гл. 32, п. 35) [5, с. 247]. Л. Толстой же воспользовался вариантом из послания апостола Павла римлянам, цитирующего слова Бога. Здесь смысл высказывания особенно очевиден: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божiю (курсив оригинала. – О. К.). Ибо написано: Мне отмщенiе, Азъ воздамъ, говоритъ Господь» (Новый завет, Послание римлянам, гл. 12, п. 19) [там же, с. 1428]. В традиционном богословском толковании эти слова понимаются, как выражение того, что Бог лишает людей права отмщения и "воздаяния" ближним – такое право имеет лишь высшая сила в лице Бога1.
Эпиграф с самого начала вызвал многочисленные и разноречивые толкования. Так, ещё в 1883 году малоизвестный ныне литератор М. Громека истолковал эпиграф в духе ходячей морали того времени, в духе безоговорочной догматизации института буржуазного брака и безусловного пиетета к общественному мнению: «Нельзя разрушить семью, – писал он, – не создав ей несчастья, и на этом старом несчастье нельзя построить нового счастья. Нельзя игнорировать общественное мнение вовсе, потому что, будь оно даже н е в е р н о, оно всё же есть неустранимое условие с п о к о й с т в и я и с в о б о д ы <…> (разрядка наша. – О. К.). Брак всё же есть единственная форма любви, в которой чувство спокойно, естественно и беспрепятственно образует прочные связи между людьми и обществом, сохраняя свободу для деятельности, давая силы для неё и побуждение…» [10, с. 265]. Далее М. Громека утверждал, имея ввиду человеческие чувства: «от воли человека зависит согласоваться с ними и быть счастливым или преступать их и быть несчастным» [там же].
Совсем иначе подошёл к вопросу великий мыслитель и психолог Ф. М. Достоевский, он прочёл эпиграф в плане концепции неистребимости зла в человеческой душе – именно поэтому люди не могут судить людей, они бессильны: «ни в каком устройстве общества, – утверждал он, – не избегнете зла, <…> душа человеческая останется та же, <…> ненормальность и грех исходят их неё самой и <…> наконец, законы духа человеческого столь же неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределённы и столь таинственны, что нет и не может быть ещё <…> судей о к о н ч а т е л ь н ы х (разрядка автора. – О. К.), а есть тот, который говорит: «Мне отмщение, и Аз воздам» [11, с. 189].
Совершенно иная и очень оригинальная концепция принадлежит В. Вересаеву. Он считал, что вина Анны не в том, что она преступила законы общества, в котором жила, но, напротив того, в том, что не смогла до конца отдаться силе любви, заставившей её выйти за рамки дозволенного: «Как будто независимая от Анны сила, – она сама это чувствует, – вырывает всё из уродливой её жизни и бросает навстречу новой любви. Если бы Анна чисто и честно отдалась этой силе, пред нею раскрылась бы новая цельная жизнь. Но Анна испугалась, испугалась женским страхом перед человеческим осуждением, перед потерею своего положения в свете. И глубокое, ясное чувство загрязнилось ложью, превратилось в запретное наслаждение, стало мелким и мутным» [8, с. 411]. В эссе «Живая жизнь» В. Вересаев постоянно подчёркивает эту концепцию: «В душе Анны ужас. Но это не светлый радостный ужас любви, которым полны, например, полюбившие Лёвин и Китти. Мрачные страшные лица людской жестокости и лицемерия стоят над любовью Анны, давят эту любовь и уродуют. <…> Анна <…> полна только презрением к себе и к постоянной своей любви» [7, с. 498]. И ещё: «Когда свершилось то, что неизбежно должно было совершиться, то было это не радостным счастьем, а сугубым ужасом, мукой и позором» [там же].
Таким образом, В. Вересаев считает, что «отмщение» приходит к Анне не за измену супружескому долгу, а за неспособность быть верной истинному чувству, себе, как живому существу, жизни, которая сделала любовь высшим человеческим чувством: «И здесь можно только молча преклонить голову перед праведностью высшего суда, - подводит итог В. Вересаев, - если человек не следует таинственно-радостному зову, звучащему в его душе, если он робко проходит мимо величайших радостей, уготованных ему жизнью, - то кто же виноват, что он гибнет в мраке и муках? Человек легкомысленно пошёл против собственного своего существа, - и великий закон, светлый в своей жестокости, говорит: «Мне отмщение, и Аз воздам» [там же].
Были ещё и другие концепции, подчас резко исключающие друг друга.
Заметим, что сам Л. Толстой, реагируя на те или иные толкования проблемы эпиграфа, несколько варьировал свои объяснения смысла эпиграфа. Так, банальные сентенции М. Гро-меки ему как-будто понравились: «Он объяснил то, - говорил писатель, - что я бессознательно вложил в произведение» [22, с. 55]. Однако, по справедливому замечанию М. Бойко, «роман Л. Толстого ставит проблемы вины, долга, свободы чувства глубже, многозначнее» [6, с. 64], а поверхностное морализирование вряд ли могло ли быть близким писателю.
Вересаевское объяснение Л. Толстой отверг, хотя оно ему по-своему понравилось: «Да, это остроумно, очень остроумно, но я должен повторить, что я выбрал этот эпиграф просто, как я уже объяснил, чтобы выразить ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием всё то горькое, что идёт не от людей, а от Бога, и что испытала на себе и Анна Каренина» [9, с. 433].
Своего рода итог толстовским самоинтерпретациям проблемы эпиграфа подвело его высказывание, сделанное на склоне лет: «Много худого люди делают сами себе и друг другу только оттого, что слабые, грешные люди взяли на себя право наказывать других людей. «Мне отмщение, и Аз воздам». Наказывает только Бог и то только через самого человека» [1, т. 9, с. 436].
Как видим, при всех оттенках высказываний Л. Толстого основной остаётся мысль: право отмщения принадлежит высшей силе, которую писатель называет «Бог». Но, если отойти от чисто религиозного толкования, можно предположить, что говоря «Бог», Л. Толстой имел ввиду «высший нравственный закон», который писатель считал присутствующим в сознании каждого человека, достигшего определённого нравственного уровня.
Подтверждение этого тезиса можно найти в ряде исследований. Литературовед М. Храпченко, например, особенно настаивает на мысли о метафоричности эпиграфа. Он считает, что эпиграф содержит в себе (применительно к роману Л. Толстого) в качестве «подтекста» мысль о вечности и неизменности нравственных законов, означавших, по мнению писателя высшую среди сил, движущих развитие человеческого общества: «Аз» для автора «Анны Карениной», - утверждает критик, - это не просто Иегова и даже, пожалуй, совсем не Иегова, а добро, составляющее условие истинной жизни, те требования человечности, вне которых она немыслима» [24, с. 218].
Но так или иначе, эпиграф существует, а роман Л. Толстого называется «Анна Каренина». Поэтому логичным будет для того, чтобы попытаться придти для себя к какому-то выводу, обращение к образу заглавной героини.
Как известно, импульсом к созданию романа стал для Л. Толстого действительный случай, о чём говорится в главе «Почему Каренина Анна и что навело на мысль о подобном самоубийстве» воспоминаний С. А. Толстой» [19, с. 154].
Первоначальный духовный и физический облик героини был, как указывают исследователи, существенно иным (об этом красноречиво свидетельствует первое название романа -«Молодец баба»). Героиня была своего рода искательницей приключений, физическое начало в ней преобладало, обманывая своего мужа, находила в лжи извращённое удовлетворение.
В дальнейшем в процессе работы писателя над рукописью мало-помалу заглавный образ эволюционировал от лихой «молодец-бабы» к женщине порядочной, привлекательной духовно и внешне. Эта эволюция наблюдается не только при хронологическом сравнении вариантов тех или иных эпизодов романа, но и в самом развитии действия в окончательном варианте. Так, например, по началу очевидно неприязнь автора к героине, по крайней мере, к её внешности. Впервые говоря об облике героини - «она была прелестна в своём простом чёрном платье, прелестны были её полные руки с браслетами, прелестна твёрдая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы <...>, прелестны грациозные лёгкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своём оживлении» [1, т. 8, с. 95], тут же добавляет: «но было что-то ужасное и жестокое в её прелести» [там же]. Ниже Кити говорит об Анне: «Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней» [там же].
Отрицательное начало в Анне Л. Толстой выявляет ещё в ряде ситуаций нескольких глав романа. Так, например, полюбив Вронского, она инстинктивно старается найти плохое в Каренине. Вот сцена её первой встречи с мужем после событий в Москве: «Ай, боже мой, отчего у него с т а л и (разрядка наша. - О. К.) такие уши?» [там же, с. 118], именно тогда её поразили «хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы». И далее расшифровывается причина этого «открытия»: «неприятное чувство», «чувство недовольства собой» [там же]. Несомненно ведь, что та неприязнь, которую испытывает к Каренину большая часть читателей романа, во многом связана с тем, что они словно бы смотрят на Каренина глазами Анны.
Оттенению «отрицательности» образа Анны служит и вторая сюжетная линия романа (Лёвин - Кити). Позволим себе не согласиться с мнением В. Кулешова, который трактуя проблему «полифонизма» (сюжетной многослойности) в творчестве Л. Толстого, утверждает, что в «Анне Карениной» «сталкиваются разные и на равных правах концепции жизни» [16, с. 235]. Как думается, сюжетная линия Лёвина носит всё-таки подчинённый характер именно в силу исходной авторской концепции неприятия Анны. «Анна Каренина и Константин Лёвин, - пишет Е. Купреянова, - обрисованы Толстым отнюдь не в качестве двух различных вариантов правдоискателя, а как д в а а н т и п о д а (разрядка наша. - О. К.). Лёвин ищет смысла жизни, сознавая бессмысленность своей, весьма благополучной, и окружающей жизни. Анна же видит весь смысл своей неблагополучной жизни в удовлетворении своего стремления к личному, в конечном счёте, «плотскому» счастью и падает жертвой его «обмана» [17, с. 128].
В этих словах Е. Куприяновой ясно просвечивает толстовская концепция осуждения «плотской» любви, концепция, проходившая через всю жизнь писателя и достигшая вершины на склоне его лет. Л. Толстой писал тогда: «Идеал христианина есть любовь к Богу и ближнему, есть отречение от себя для служения богу и ближнему. Плотская же любовь, брак - есть служение себе и потому есть во всяком случае препятствие служению Богу и людям и потому с христианской точки зрения - падение, грех» [21, с. 48].
Поэтому, видимо, столь частым в «Анне Карениной» является «мотив вины». По словам, например, М. Бойко, «Л. Толстой строит роман как строго детерминированную систему, где «преступление» и «возмездие» сплетается в единую неразрывную цепь. Ощущение виновности - вот чувство, которое, пожалуй, чаще всего испытывают герои романа» [6, с. 65]. В самом деле, роман начинается с описания того, как Стива Облонский мучается сознанием своей виновности перед женой: «его воображению представились опять все подробности ссоры <…>, вся безысходность его положения и мучительнее всего собственная вина его» [1, т. 8, с. 8]. Вот Кити видит на балу Вронского, в его внезапном увлечении Анной: «на лице Вронского, всегда столь твёрдом и независимом, она видела то поразившее её выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата» [там же, с.95]. Чувствуя какую-то свою вину, Каренин именно поэтому усердно убеждает себя: «Я ошибся, связав свою жизнь с нею; <…> Виноват не я <…>, но она. Но мне нет дела до неё» [там же, с. 308]. «Она должна быть несчастлива, но я не виноват и потому не могу быть несчастлив» [там же, с. 312].
Как думается, с «мотивом вины» связан и «мотив судьбы» Анны – ведь Л. Толстой сразу указывает на предопределённость трагической судьбы Анны – об этом говорит эпизод гибели путевого обходчика, неспроста соседствующий с эпизодом первой встречи Анны и Вронского. Именно так расценивает это событие сама Анна: «Степан Аркадьевич с удивлением увидел, что губы её дрожат и она с трудом удерживает слёзы.
– Что с тобой, Анна? – спросил он, когда они отъехали <…>
– Дурное предзнаменование, – сказала она» [там же, с. 75].
Очевидно, что у каждого, кто уже читал роман или хотя бы знает о трагическом конце Анны, это «дурное предзнаменование» тут же вырастает в многозначительный символ1.
Итак, Л. Толстой начинает с осуждения Анны. В дальнейшем, очевидно, началось то, что называют «самодвижением» художественного образа – образ Анны словно бы вышел из подчинения писателя и стал жить «самостоятельной жизнью». Сам Л. Толстой об этом говорил вполне определённо, вспоминая «случай, бывший с Пушкиным: Однажды он сказал кому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной моя Татьяна! Она – замуж вышла. Этого я никак не ожидал от неё». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы: они делают то, что должны делать в д е й с т в и т е л ь н о й ж и з н и (разрядка наша. – О. К.) и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется» [3, с. 423]. Направление же самодвижения заключалось в том, что из игрушки низменных страстей, какой была Анна первоначально («чувство это удесятерилось прелестью запрещённого плода и возрастило развитие силы страстей» [14, с. 153], так характеризовалась героиня в первоначальных эскизах романа) она превратилась в жертву трагических обстоятельств.
Отметим, что Л. Толстой приводит сведения о «брачном союзе» Анны и Каренина, о начале их совместной жизни лишь во второй половине романа (в пятой части). А ведь у читателя, который судит по отношению Анны к Каренину, сразу складывается впечатление, что их брак с самого начала был сделкой, совершённой по традициям их общества – девушку, достигшую известного возраста, выдали за пожилого человека «с положением» (невольно вспоминается пукиревский «Неравный брак»). А позже об этом у Л. Толстого говорится достаточно приземлённо: «Во время его (Каренина. - О.К.) губернаторства тётка Анны, богатая губернская барыня, свела хотя немолодого уже человека, но молодого губернатора со своею племянницей и поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться, или уехать из города. <…> тётка Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометировал девушку и что долг чести обязывает его сделать предложение. Он сделал предложение и отдал невесте и жене всё чувство, на которое б ы л с п о с о б е н» [1, т. 9, с. 84] (разрядка наша. – О. К.). Как видим, о чувствах Анны речи нет, даже об «отражённых» (какие бы могли возникнуть в ответ на сильные чувства претендента). «Анна с её характером, – пишет Е. Евту- шенко, – возможно, бросила бы Каренина, даже не встретив Вронского. Любовь к Вронскому была одним из проявлений её ненависти к мужу, и если бы Вронского не существовало бы, Анна бы его выдумала» [13, с. 26].
Читатель ощущает подобное сразу, с первых сцен, в которых «выступают» Анна и Каренин, однако писатель, как уже говорилось, не торопится об этом сказать.
Очевидно, что в процессе развития действия облик Анны становился более близким Л. Толстому, безусловное поначалу осуждение её мало-помалу становится не столь категоричным. В этом плане переломной становится сцена у постели умирающей Анны. Ф. Достоевский писал об этом эпизоде: «Явилась сцена смерти героини (потом она опять выздоровела) – и я понял всю существенную часть целей автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековечная жизненная правда, и рядом всё озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми» [12, с. 57].
Неспроста изменилось и авторское отношение ко второй сюжетной линии романа – линии Лёвина. Б. Эйхенбаум, например, пишет, что в процессе работы Л. Толстого над романом, «Лёвин, постепенно вытесняя Анну, стал главным героем – и роман из любовного, посвящённого вопросу семьи, брака и страсти, превратился в сельскохозяйственный, аграрнопроизводственный» [27, с. 70]. Если отбросить некоторое преувеличение (роман всё-таки остался прежде всего психологическим), то надо признать, что верно подмечено превращение второй линии романа из только поддерживающей «осуждение» в пласт в известной степени ведущего самостоятельное существование.
Окончательно «высветляет» образ Анны её трагическая гибель1.
При поверхностном подходе смерть Анны воспринимается как квинтэссенция «от-мщения»2, однако это вовсе не так – ведь на гибель Анна идёт по собственной воле, ибо видит в ней единственное средство вернуть их любви прежнюю высоту: «И смерть, как единственное средство восстановить в его (Вронского. – О. К.) сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в её сердце злой дух вёл с ним, ясно и живо представилось ей» [1, т. 9, с. 345].
Таким образом, смерть Анны – новый этап борьбы за любовь, за правду в человеческих отношениях, эта та смерть, о которой Л. Фейербах говорил: «Смерть – благо и даже право – священное естественное право придавленного злом на освобождение от зла. Смерть – это не кара за совершённые грехи, это награда за перенесённые страдания…» [23, с. 451]. Смерть Анны означает для неё уход в «новую жизнь» (в памяти близких), возрождение её доброго имени, духовное самоочищение.
В итоге, «создание образа Анны Карениной – пример сложных творческих исканий художника, который отбрасывая всё искусственное, нарочитое и оставлял всё убедительное и правдивое» [2, с. 321].
Каков же итог? Очевидно, что образ Анны, выйдя из-под власти автора, сумел защитить себя, сместить акценты в концепции романа, а следовательно, иной смысл должен был приобрести и эпиграф. Однако, Л. Толстой, взяв это библейское изречение в самом начале работы над романом, оставил его и в окончательном варианте. Из этого можно сделать вывод о том, что, во-первых, писатель придавал ему очень важное значение, и, во-вторых, что для Л. Толстого эта библейская фраза символизировала не просто судьбу одной женщины, одной семьи, одной любовной пары, но несла в себе выражение «всеобщего нравственного закона». М. Храпченко, например, считает, что вообще эпиграф «…не может быть «прикреплён» к об- разу главной героини произведения. Попытки с точки зрения прямолинейного истолкования эпиграфа рассмотреть этот характер, его психологическое содержание терпят полную неудачу по той простой причине, что обрисовка Анны в целом решительно противоречит «осудительной» идее эпиграфа» [24, с. 217].
Если поначалу можно было представлять себе, что «острие» эпиграфа нацелено в Анну, то в дальнейшем очевидно, что Л. Толстой осуждает вовсе не её. В самом эпиграфе акцент с «отмщения» смещается на лишение людей права на «отмщение». Вернёмся к уже приводившемуся высказыванию Л. Толстого (теперь для нас его смысл ясен): «Наказывает только бог и то, т о л ь к о ч е р е з с а м о г о ч е л о в е к а» (разрядка наша. – О. К.) – судьёй может быть сам человек, достигший осознания высшего нравственного закона [3, с. 430]. Кто же, по мнению писателя, лишён права судить, права на «отмщение и воздаяние»? Это очевидно – виновато в гибели Анны общество, построенное на лжи и лицемерии – они охотно простили бы ей «невинные шалости», но любовь простить не могут.
Итак, хотел этого Л. Толстой или не хотел, но древние библейские слова, поставленные им эпиграфом к «Анне Карениной», могут звучать, как грозная надпись, которую «чертѝт уж рука роковая» – как грозное предостережение обществу соучастному несправедливости.
Мощью своего художественного дара Л. Толстой показывает, что в «треугольнике» главных персонажей романа нет безусловно заслуживающих «отмщения». Дело не в вине кого-то из них – виновато общество, его догматы.
В. И. Ленин недаром назвал Л. Толстого «зеркалом русской революции» [18, с. 5], по словам Б. Эйхенбаума, «употребив слово «зеркало» не как метафору, а в роли термина, обусловленного пониманием искусства как особой формы «отражения действительности» [27, с. 255]. К революции привело развитие всех сторон русской жизни, поэтому ленинское определение означает исчерпывающую широту отражения русской действительности в творчестве Л. Толстого. Революция сломала и старый институт брака, а Л. Толстой показал неизбежность этого в романе «Анна Каренина».
Предлагаемая выше интерпретация смысла эпиграфа к «Анне Карениной», не претендует быть исчерпывающей, но, как думается, может быть одной из возможных.
Необходимо также иметь ввиду, что подробное рассмотрение проблемы эпиграфа может излишне акцентизировать на нём внимание и придать ему то основополагающее значение, которого может быть, вовсе и не придавал ему сам Л. Толстой. Такое мнение не раз высказывалось рядом исследователей. «Совершенно очевидно, – считает, например, М. Храп-ченко, – что <…> пафос романа как системы образов, как объективного отражения жизни не может быть сведён к формуле: «Мне отмщение и Аз воздам» [24, с. 217]. Б. Эйхенбаум cформулировал сходную мысль так: Толстой «вовсе не имел в виду выразить в этом эпиграфе смысл всего романа и превратить, таким образом, роман в иллюстрацию к евангельскому изречению..» [26, с. 199-200]. С другой стороны, рассмотрение проблемы эпиграфа, безусловно, необходимо, так как до сих пор постоянно встречаются поверхностные, мелко субъективные его толкования.
Несомненно, проблему эпиграфа к «Анне Карениной» нельзя считать разрешённой до конца, впереди ещё новые литературоведческие прочтения проблемы, новые концепции и гипотезы. И уже в этом одном ещё раз подтверждается неисчерпаемость идейно-художественной глубины замечательного произведения великого русского писателя.
Список литературы О значении эпиграфа к роману Л.Н. Толстого "Анна Каренина"
- Толстой Л. Н. Анна Каренина // Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит., 1981-82. Т. 8, 9.
- Арденс Н. Творческий путь Л. Н. Толстого. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
- Бабаев Э. Послесловие к роману "Анна Каренина" // Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 9.
- Библiя или книги Священнаго писания. СПб., 1817.
- Библiя или книги Священнаго писанiя Ветхаго и Новаго завета. Вь русскомь переводе. СПб.: Синодальная тип., 1912.